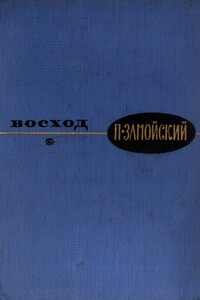Самое длинное мгновение | страница 25
Он посидел еще немного и ушел, так и не дождавшись Бэлы, из-за которой, конечно, он тут и оказался.
Да, мама очень расстроится. Ей все мерещится, что я вот-вот сотворю какой-нибудь несусветный проступок и меня исключат из техникума. А это значит, что я останусь без стипендии и вместо рабочих продовольственных карточек буду получать иждивенческие…
Не знал я, куда деться. Я понимал, что в техникум я не пошел единственно из-за того, чтобы побыть со своим горем, отдаться ему, а сейчас уже стыдился этого. Была у меня такая способность — поддаваться горю, впитывать его в себя и только потом с ним бороться. Я как бы заманивал горе в свою душу, чтобы победить его там, в глубине.
Почему же — горе? Отчего же я ощущаю себя ничтожным, несчастным?
В кухню вошла Бэла, поздоровалась, но больше ничего не говорила. Я не поднимал глаз, будто она знала, что я видел ее во сне. Я чуть не дрожал от холода, у меня даже уши замерзли, но когда она оказалась рядом, уши у меня горели…
— Я здесь долго не задержусь, — сказала Бэла. — Жора, видно, проворовался, дурак.
Удивительно, что самые пошлые слова, произнесенные ее голосом, как бы теряли свое настоящее значение, превращались в нечто противоположное.
В черном халате до полу, с полураспущенными густющими черными волосами, большими темно-голубыми глазами, Бэла в нашей убогой кухне могла бы показаться прекрасным видением, если бы — не курила.
— Вы курите?! — вырвалось у меня.
— Иногда. Когда отвратительное настроение. Вот как сейчас. Хоть вешайся. Я, конечно, не повешусь, но думать о таком выходе из положения буду. Сейчас слушала по радио письма на фронт и вся изревелась… Ведь и не сволочь я… хуже бывают. Сама воровать не могу, но живу ворованным… Мне бы еще подлости или наоборот, честности, а я…
Она ушла.
В душе у меня была горькая пустота. Я торчал в промерзшей кухне, уставясь на остывший чайник, и думал о Бэле, вернее, не думал, а пребывал в каком-то состоянии, связанном с ней, с ее существованием в моей жизни и предстоящей разлукой. Мне бы надо было как-то вырваться из этого состояния, сходить бы за дровами, вынести помои, истопить печь… Все эти обычные и необходимые дела казались сейчас мне бессмысленными. В то же время я сознавал, что если не сделаю их, то буду виноват и буду переживать.
Способность мучиться из-за пустяков, самому себе создавать их сохранилась у меня на всю жизнь. Словно мало мне настоящих переживаний, я еще вдоволь обеспечивал себя мелкими неудобствами, словно намеренно избегал любой возможности хотя бы ненадолго побыть в покое, хотя бы в относительном самодовольстве.