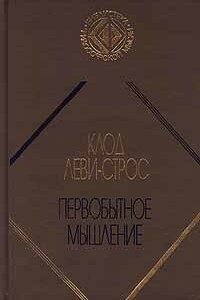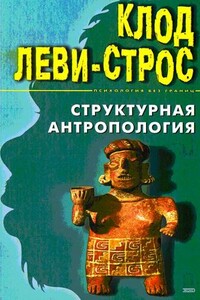Печальные тропики | страница 118
Наконец, пройдя сквозь колючий кустарник, мы вышли к пологой каменистой дороге, ведущей в сухой лес, в котором кактусы росли рядом с деревьями. Едва мы обошли высотку, поросшую большими колонновидными кактусами, как разразилась гроза, собиравшаяся еще с утра. Мы спешились и решили укрыться под каменными сводами пещеры, хотя и сырой, но спасающей от ливня. Как только мы вошли внутрь, раздался странный писк – это были летучие мыши, которых здесь называют морсэгу. Они спали, облепив каменные своды, а мы нарушили их покой.
Когда дождь закончился, мы продолжили путь в густом и темном лесу, полном свежих запахов и диких растений. Вот женипапо – фрукт с крупными, терпкими на вкус плодами; гуавира – растет, как правило, на прогалинах и славится тем, что ее всегда прохладная мякоть хорошо утоляет жажду; дающее орехи кешью кажу, которое занимает бывшие индейские лесные делянки.
Равнина постепенно приобретала характерный для Мату-Гросу вид плато, поросшего редкими деревьями и высокой травой. Мы приблизились к месту наших исследований, обошли трясину и высохшую на ветру грязь, по которой бегали болотные птицы. Впереди показались хижина и загоны для скота – пост Ларгон. Там мы застали семью, занятую разделкой молодого быка, которого готовили на продажу. В его окровавленном остове, крича от удовольствия, несколько голых ребятишек играли «в лодочку» и качались. В сумерках над костром, разведенным под открытым небом, поджаривали шурраско, жирные капли падали в огонь, а урубу – грифы-стервятники – целыми стаями спускались с гор к месту, где разделывали мясо, и сражались с собаками за кровь и выпотрошенные внутренности быка.
Покинув Ларгон, мы двинулись по «тропе индейцев». Сьерра, неожиданно меняясь, вела то вверх, то вниз, из-за неровной скалистой местности нам приходилось идти пешком, держа лошадей за поводья. Тропа следовала вдоль горного ручья, его не видно, а только слышно журчание воды на перекатах. Недавно прошел дождь, и идти по мокрым камням и грязным лужам очень скользко. Наконец на краю сьерры мы наткнулись на круглую площадку индейской стоянки, где удалось немного передохнуть, прежде чем отправиться дальше – через болото.
В 4 часа вечера, изрядно устав, мы сделали остановку – между деревьев натянули гамаки, подвесили противомоскитные сетки, проводники развели огонь и приготовили обед из риса с вяленым мясом. Нас так мучила жажда, что мы без отвращения выпили несколько литров мутной от примеси почвы болотной воды, добавив в нее марганцовки. День подходил к концу. За серой кисеей москитных сеток пламенело небо. Едва удалось уснуть, как нас разбудили проводники. Они уже запрягли лошадей, нужно было продолжать путешествие. В теплое время года лошадей щадили и пользовались для переходов ночной прохладой. Вялые, сонные, немного продрогшие, мы пробирались по узкой, освещенной луной тропинке. Лошади спотыкались, близилось утро. К 4 часам утра мы добрались до Питоко, где некогда находился пост Службы защиты индейцев. Теперь там три разрушенных дома, между которыми кое-как удается подвесить гамаки. Река Питоко течет плавно; беря начало в Пантанале, через несколько километров она вновь теряется в нем. У нее в сущности нет ни источника, ни устья, кое-где русло и вовсе пересыхает. Для неопытного путешественника настоящую угрозу представляют пираньи, обитающие в реке, но для осторожного индейца они – не помеха: здесь купаются и набирают воду. Несколько индейских семей по-прежнему живут в этих болотах.