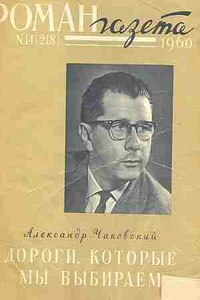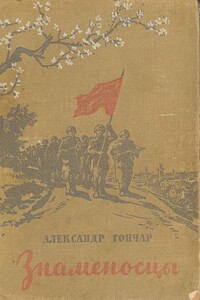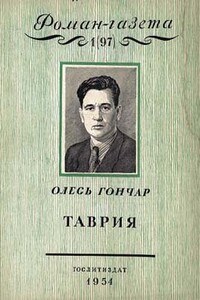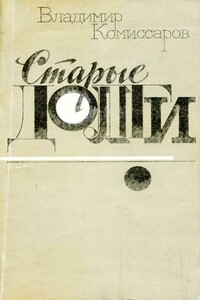Твоя заря | страница 82
— Каскадер, а все потому, что Надьку любил, — вторглась в наши раздумья девчонка, а мы лишь удивленно переглянулись и промолчали.
Должно быть, так весомо и внушительно направляются теперь космонавты к ракетам, закованные в скафандры, как отправлялся тогда он под тяжестью своей железной ноши, такой немыслимо тяжелой, что, казалось, даже земля прогибалась под Олексой при каждом его медленном, осторожном шаге.
Длиннющая лестница уже ждала его, приставленная к кирпичной стене, а где первая лестница кончалась, там ждала смельчака привязанная канатами вторая, а за нею — уступами — третья, четвертая, и так до самого купола, до наивысшей верхушки.
Замерли люди, никто не дышал на майдане, все следили за этим человеком, перевязанным рушником, который со скрещенным железом за плечами ступенька за ступенькой поднимался все выше да выше, туда, где только небо светилось голубизной, светилась сама высь. Как знать, может, и трепетная мечта будущего летчика именно в эти минуты в этой толпе из чьей-то детской души впервые проглянула в небо, возжаждав крыльев? Все меньше становился наш бесстрашный Олекса, из бандита выросший сегодня в мастера-верхолаза, и мы чувствовали, как ему все труднее дается каждая ступенька, и кто скажет, не пожалел ли он, что согласился взять на себя эту ношу, железную, страшную, хотя ведь и не каждому выпадает свершать в жизни, вот так принародно, соколиный труд мастера!.. Уже Олексу нам словно и не видно, уже только птицей в небо белеет его рубашка, да вьется чистый рушник, да расплавленным снопом золота искрится в солнечных лучах то, что юноша возносит к самому острию нацеленного в небо шпиля. А с каждым мгновеньем как будто и сам он тает-плавится в ослепительном свете, каким-то мерцанием становится Олекса, и уже кажется нам, что один только сноп золотых лучей остался от человека, который от нас, скованных страхом на земле, удаляется, исчезает в небе… «Была не была!..»
А потом — не знаем, что произошло… Только Олекса уже на земле, в пыли лежит, все тем же рушником перевязанный. Навзничь распростерся на своем губительном железе, так и увязшем в землю. Люди окружили его, и мы, мелюзга, сквозь частокол ног тоже продираемся взглядами к его лицу, а оно такое бледное, такое белое, белее той горючей извести, которая, взрываясь где-то здесь, разносила бутылки… И такой красивый лежит он, наш Олекса, никогда его таким не видели. Капельки пота росою блестят на высоком челе, брови, как нарисованные, чернеют на смертельной белизне спокойного-спокойного лица. Распростертый в пыли, поверженный, но теперь чем-то словно более значительный, он из-под приспущенных век умиротворенно смотрел куда-то ввысь, где озерянское небо осталось без него пустым, только с золотым снопом солнца. А нам, детворе, страшно, нас прямо мороз подирает, хотя жара стояла над Озерами и в давке можно было сомлеть. И все-таки, зажатые среди леса сапог и босых ног, мы, мелюзга, глаз не могли отвести от Олексы. Странно, однако происшедшее не воспринималось как поражение Олексы, падение ничуть не унизило его перед нами, напротив, это трагическое падение как-то даже вознесло Олексу в наших глазах… Нет, не бандит, а Мастер на земле пред нами лежит! Уже ни озорства, ни буйства, только великий покой да трудовая усталость замерли в этой ладони, почивающей в пыли, где и козельская иконка валяется припорошенная, в испуге выроненная кем-то из рук… Не уберегла, не защитила и она!