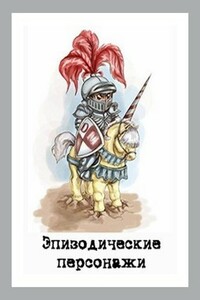Хранитель | страница 49
— А по-моему, вам просто скучно. Вы со своим бессмертием и могуществом сошли с ума. Вы распоряжаетесь жизнями и судьбами людей, словно играя в компьютерную игру.
Незаметно поднялся ветер, стало значительно холоднее.
— Ты ошибаешься, человек. Тебе не понять всех мотивов. Антибиотики, полёт в космос, интернет — это лишь коротких список моих удачных проектов. Да, я не скрываю, были и неудачные.
Ветер поднялся такой, что приходилось уже кричать и Энштену.
— Благими намерениями вымощена дорога в ад, — закричал журналист. — Вы не заслуживаете того, чтобы жить на этой земле и в этом мире.
— Возможно, но не тебе меня судить.
— Ещё один вопрос: мой визит на красную землю — ваших рук дело?
— Нет. Случайность. Во всяком случае, точно не моих.
— Почему вы в саване? Это же одеяние для покойников?
— Я чувствую, что сегодня умру, умру окончательно. Неужели ты? Интересно, как ты меня убьёшь? Но я хочу жить, поэтому я постараюсь убить тебя.
Ветер был такой силы, что чуть не сбивал с ног двоих мужчин. В ушах Ручкина стоял сильный свист, приносящий боль. Саван! — вдруг вспомнилось журналисту. «И в белый саван я войду».
Самуил Степанович протянул руки к горлу Ручкина и сжал с такой силой, что у журналиста потемнело в глазах от боли и резкой нехватки кислорода. Пётр Алексеевич покидающими его силами достал кинжал и вонзил его в грудь Энштена. Ветер стих, хватка ослабла, наступила могильная тишина. По белой ткани потекла кровь. Энштен покачнулся и упал на пол кельи. Силы его покидали. Улыбнувшись, он проговорил: «Где возродился, там и умираю. Вот же ирония. Кинжал с частью копья Лонгина. Ирония судьбы». Договорил и исчез. Пётр Алексеевич стоял один, в Гегарде, потрясённый. После чего потерял сознание.
День восемнадцатый
Анна Серафимовна
Пётр Алексеевич открыл глаза. Непонятно почему стихи юности, которые он в большом количестве писал в детстве и которые все почему-то отдавали чернухой, сейчас вдруг всплыли в памяти. Он лежал на кровати, на мокрой от пота подушке. Над ним нависло взволнованное лицо Фрола.