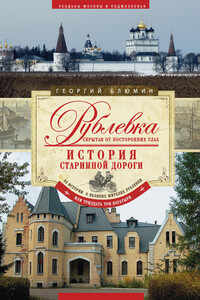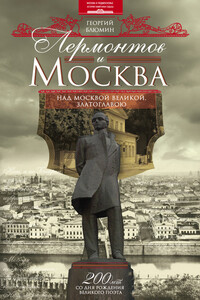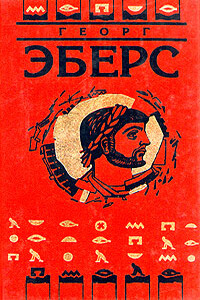Юность Татищева | страница 64
В Залесье, которое по форме своей напоминало летящую птицу (несколько изб стояло вдоль дороги, другие поперек ее), неутомимых изыскателей манил к себе большой пруд. Этот пруд необычен был своими островами из белых лилий — словно огромные букеты прекрасных цветов покоились на ровной поверхности воды. Колеблемый струей глубинной, холодный снеговой цветок с янтарно-желтой серединой притягивал взгляд. Меж длинных, уходивших в глубину стеблей лилий сновали рыбки. Налюбовавшись вдоволь на белоснежные цветы, пускались по дороге дальше и через версту-другую выходили на околицу Горбова. Тут устраивали второй отдых, подкреплялись крестьянскими щами да кашей, отдыхали на берегу пруда. Мимо спешили по делам своим крестьянки в холщовых сорочках с круглым воротом в сборку, с длинными рукавами, собранными в мелкую складку. Поверх сорочек надеты были поневы тоже из грубой холстины. «Бабьи рубашки — те же мешки: рукава завяжи да что хоть положи», — говорил учитель, любивший русские пословицы. Крестьяне одеты были в рубахи да порты, а обуты в лапти. Те, кто побогаче, вплетали в лапоть кроме лыка еще и кожаные ремешки. Ноги обернуты холщовыми онучами.
Горбово славилось в округе малиновыми медами. Малины в окрестных лесах всегда было несметное количество, и заготовляли ее в середине лета ведрами. Затем спелую малину засыпали в чистую бочку, заливали водою и давали постоять так два дня, покуда цвет и вкус малины не перейдет весь в воду. Затем эту воду сливали в другую бочку и примешивали в нее очищенного от воску меду: кружка меду на три кружки настоенной воды. Затем туда помещался кусочек поджаренной булки и небольшое количество дрожжей, когда же мед начнет бродить, булку вынимали и оставляли бродить еще пять дней. Туда же помещали мешочки с гвоздикой, кардамоном и корицею. Мед возили на продажу в Клин за тридцать верст и в Москву за шестьдесят.
Обратно из Горбова возвращались тем же путем или выходили на Тверской тракт, а затем с него сворачивали на Болдино.
Вечерами собирались в школьной комнате всей семьей слушать рассказы Никиты Алексеевича. Отец был мастер рассказывать, и вспомнить ему было о чем. О том, как строили гавани в Азове и в Таганроге и одновременно отбивали атаки татарской и турецкой конницы. Как выбита была в честь победоносного Азовского похода медаль с изображением Петра и с надписью: «Молниями и волнами победитель». Каков великий триумф был дан Петру в Москве по возвращении от Азова, и вслед за тем последовало умножение флота российского, для чего кроме воронежской брянская верфь учреждена, на коей строились галеры. Как для спасения погруженного в глубокое невежество государства царь Петр повелел отослать в чужие края для обучения наукам — корабельному искусству, инженерству, архитектуре — 35 боярских и дворянских детей, и сам, своею персоною, решил отправиться для постижения всех наук за рубежи России. О том, как недовольно царем духовенство и как народ озлоблен на иноземных еретиков, в большом числе приглашенных в Россию. О заговоре против молодого царя и о казни заговорщиков 5 марта 1697 года. А уже 9 марта царь выехал за границу путешествовать, скрывшись среди дворян посольства, во главе которого поставил генерал-адмирала Франца Яковлевича Лефорта. Петр посетил Ригу, шведскую Лифляндию, где был принят грубо и холодно, затем торжественно встречен, не открывая своего сана, в Кенигсберге, в Амстердаме, в Берлине экзаменован по артиллерийскому делу и получил аттестат. И все время выходил из коляски во время пути, чтобы срисовать незнакомый плуг, или кирху, или мост. В Саардаме голландском и вовсе прожил полтора месяца, работая простым плотником под именем Петра Михайлова. Сам сделал мачту для буера, кровать себе, сам готовил пищу. И отзывался на имя Питер Бас, которым его наградили корабельные мастера. По Москве ходили слова царя из письма его к патриарху от 10 сентября 1697 года: «Мы, следуя слову божию, бывшему к праотцу Адаму, трудимся; что чиним не от нужды, но от доброго ради приобретения морского пути, дабы, искусяся совершенно, могли возвратиться и противу врагов имени Иисуса Христа победителями, благодатию его быть». Царь осматривал кунсткамеры, математические инструменты, посещал собрания ученых, сам обучался математике, физике, географии, инженерству, анатомии и хирургии, сам прошел все степени морской нижней службы.