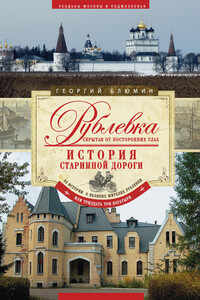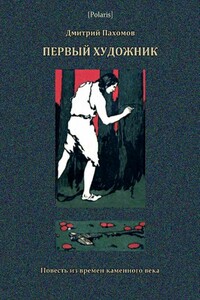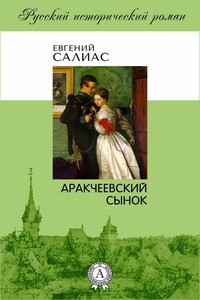Юность Татищева | страница 35
— Здравствуй, Филипп Назарьич, — проговорил, войдя в избу, Тимошка. — Дозволь у тебя ночь переночевать да день передневать.
Папуга поднял нехотя голову, вгляделся в вошедшего, узнал.
— Боярским ходокам наше почтение. Чай, лавку-то не пролежишь, а харчишки у нас не бог весть какие, а все казенные. Куда путь держишь, Тимофей?
— Ищу вот Якова-мастера нашего, не слыхал ли чего про него?
— Якова Григорьича? Э, брат, он теперь высоко взлетел и еще выше подымется, если боярин твой крылья ему не отобьет. Слышь-ко, неделю тому были тут голландские и польские знатные мастера, на наши онучи и лапти поглядывали да посмеивались, а как увидали монастырские башни, что мы с Яковом Григорьичем строили, так и прикусили языки и чтобы непременно подать им того великого архитектора, что придумал такое. Да только Яков с ребятами своими на Рязань ушел. И то: оброк-то в срок плати боярину, не то жена с малыми детьми по миру пойдут. Вот и набрал себе подрядов, благо силу имеет пока что. — Папуга встал из-за стола, показал Тимофею чертеж. — Гляди, коль славно все расчислил, хоть и грамоте не обучен. А младшой-то Михайлов нову краску придумал, зелену с золотом, и изразцом тем главный храм украсил; день и ночь трудился, а оброк во срок не уплатил. Сам барин Волынский приезжал, да велел дать Менке-то пятьсот батогов, чтоб, значит, не заносился шибко. Тут на погосте и схоронили Менку-то… Так что лавка слободна, ночуй…
Широкое лицо Филиппа порозовело, отер пальцами маленький нос крючком и слезинку сморгнул. Вынул из печи квасную тюрю, поставил в котелочке перед Тимофеем. Тот котомку развязал, положил на стол полоску сала, крупной темной солью посыпанную.
— Ишь ты! — удивился Папуга. — Боярский харч получше нашего будет. — И к столу подсел.
— А расскажи, Филипп Назарьич, про Петра-царя, — сказал Тимошка тихонько и быстренько перекрестился на дальний угол избы. — Ить ты, почитай, совсем близко видал его.
— Доводилось, как же. — Филипп отрезал тоненький кусочек сала, положил на хлеб.
— А вправду ли, что будто обличье у него сатанинское и будто рога у него на лбу цирюльник всякую пятницу спиливает? — Тимошка круглил глаза и тюрю перестал хлебать.
— Эко ты брех-то собачий повторять горазд! — Папуга сдвинул брови к переносью. — Я те зла не желаю, а гляди, за такие речи и на дыбу попасть недалече…
Помню, я свод воротный складывал в Преображенском. Подбежал ко мне худой, высокий, глаза веселые и давай выспрашивать, как это своды выводят, чтобы не падали наземь. А потом и сам камни ворочал да мне до вечера подсоблял. Я-то поначалу думал, что это кто из денщиков царских и ругнул его даже пару раз по-простому. А он ничего, смеется только. А тут второй такой же длинный объявился: кафтан с золотыми бляхами, на голове — шапка из волос чужих — парих зовется. Этого-то я знал и прежде, двинул он мне раз в скулу, когда поклониться в срок не успел. Да… Александр Меншиков по прозванию, из подлого люда, а куды там, не подступись… Так вот этот второй кланяется моему подручному в ноги: ваше, мол, царское величество, извольте к столу иттить, откушать, и еще что-то, по-немецкому. Я так и обмер и кувалду из рук выронил. А Петр-то Алексеич, государь, крепко так меня за плечи обнял: трудись, говорит, Филипп Папуга, во славу российскую. Поискал чего-то в кармане, не нашел да и рванул с мясом три пуговки золотые с кафтана Меншикова, мне отдал. «За науку спасибо», — говорит. Две-то пуговки мы артелью пропили в тот же вечер во здравие государево, а одну сберегаю, и детям своим завещаю беречь… Красив молодой царь лицом, кудри черные, станом тонок, в руках силушка великая. И высок-то вытянулся, в сажень, пожалуй, будет. С нами-то прост, а гляди, как заморские послы уважительно говорят с ним — ума палата. Сам, вишь, чертеж сделал и церковь поставил на дороге из Преображенского в Немецкую слободу. По нашему каменному делу — мастер, да и по корабельному успел. Плотники сказывали, что строили с ним корабль на Переяславском озере; там он себя подшкипером переяславского флота называл. И в Архангельске запросто с гамбургскими матросами пировал.