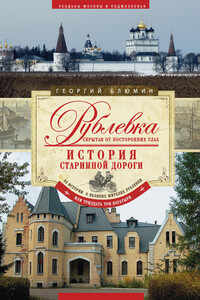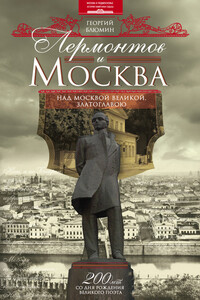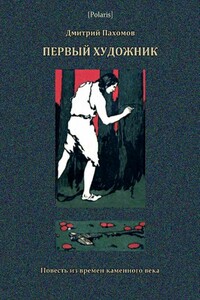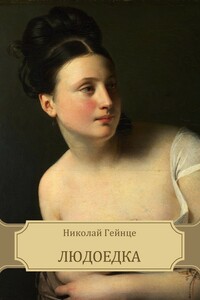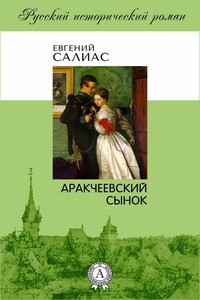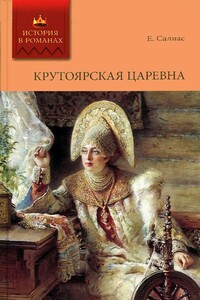Юность Татищева | страница 33
Белорусские мастера принесли в Москву искусство высоких рельефов, от них взял Карп Золотарев свою технику. Гирлянды растений, перевитых лентами и украшенных бантами, колонны и рамы разных масштабов, картуши, волюты и раковины окружили иконы живой игрой света и тени. Над иконами трудились Иван Безмин и Богдан Салтанов — учитель Золотарева. Храмовую икону Спаса Нерукотворного писал знаменитый иконописец Оружейной палаты Кирилл Уланов. А в иконный лик архидиакона Стефана вложил художник черты лица царя Петра. Здесь учился Яков Бухвостов искусству возводить храмы «под колоколы», заключая в один объем и церковь, и колокольню. Пять куполов филевского храма так устроены, что с какой стороны ни глянь, увидишь словно три золотые звезды, увенчанные ажурными золочеными крестами. Пламя, золотое пламя бросилось ввысь по апсидам, волютам колонн, решеткам окон, куполам и застыло вдруг, чаруя взор красотой, освежая душу песней, укрепляя сердце гордостью. Карп Иванович высоко оценил дар природный Якова Бухвостова из Берендеевского стана Дмитровского уезда, и пошел Якушка-мастер заключать подряды на строительство стен монастырских в Новом Иерусалиме, Успенских соборов в Рязани и Астрахани. А тут еще боярин Петр Васильевич Шереметев в подмосковном селе своем Спасском решил выстроить церковь Спаса Нерукотворного образа.
И сделал Петр Шереметев ставку свою на Якушку Бухвостова. В мыслях было: не одному царскому дяде Льву Нарышкину столь богатый храм у себя заводить, авось и мы не лыком шиты да и деньги найдутся. Десять лет минуло, как схоронил Петр Васильевич своего отца Василья Борисовича Шереметева — воеводу русского, выкупленного из крымского плена. Был при отце, помнит он, молодой жилец Борис Татищев… Написал Петр Васильевич к боярину Михайле Татищеву просьбу отпустить к нему Якушку Бухвостова со товарищи храм построить. Татищев просьбе старого боярина внял и послал в Спасское Тимошку Соболевского с поручительством за Бухвостова. Одновременно Тимошке указано было сыскать Бухвостова, на каком бы деле он ни состоял, и передать ему задание боярское и волю помещичью.
Тимошка надел кафтан служебный, обулся в сапоги да захватил с собой в запас пару лаптей. Перекрестясь на Якушкину церковь в селе, пошел по дороге на деревню Лопотово, откуда возили камень по Истре-реке на строительство Воскресенского монастыря. Отсюда на плоту спустился он через Горки, Сафонтьево и Сокольники к самому Воскресенскому и увидел в лучах вечерней зари и громадный храм, и Рождественскую церковь, и купол крипты — церкви подземной. Кругом монастыря вздымалась почти законченная строительством каменная стена с кровлею и переходами на арках. Восемь многоярусных шатровых башен венчало ее, наименованных в память башен древнего Иерусалима: Дамасская, Давидова, Елизаветинская… Пока Тимошка дивовался на открывшееся перед ним зрелище, высокорослый мастер, — кудри перехвачены тесьмою, — придирчиво оглядывал привезенный камень, остукивая каждую плиту молоточком. Тимошка подвинулся к нему, завел разговор. Мастер оказался родом из Белоруссии по имени Василь Заборский. Отец его пришел сюда в самом начале строительства. Патриарх Никон сразу отличил Петра Заборского