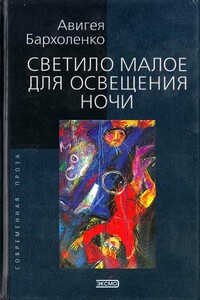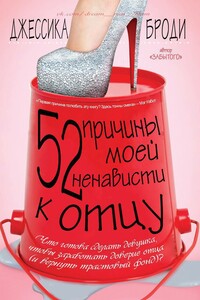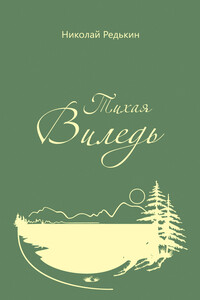Этика небытия. Жизнь без смысла: самая печальная философия | страница 60
В заключение Бенатар обращается к вопросу, имеет ли какое-либо значение то, что его выводы настолько парадоксальны? Он отдает себе отчёт в том, что оптимисты могут отклонить приведенные им аргументы как слишком эксцентричные и потакающие его личным желаниям (точнее, нежеланиям). Они могут сказать, что бесполезно «оплакивать сбежавшее молоко». Мы имеем то, что имеем, поэтому бессмысленно смаковать наше общее горе в печальной саможалости, а лучше расслабиться и постараться получить хоть какое-то удовольствие. Однако Бенатар убежден: подобная аргументация лишь служит еще одним подтверждением того, что пронатальные интуиции – продукт иррациональных психологических сил. Настаивать на том, что «позитивная» сторона – это всегда правая сторона, означает поместить инстинкт и обслуживающие его идеологии впереди доказательств. Разумеется, оптимисты могли бы ответить, что, даже если философ прав и рождение всегда влечет за собой зло, лучше не засорять сознание этим неприятным фактом, поскольку это лишь увеличивает наличное зло. В этом есть доля правды. Однако острое переживание сожаления о собственном существовании – вероятно, самый эффективный способ избежать причинения того же самого вреда другим.
Бенатар считает крайне маловероятным, что большое количество людей примет данные выводы близко к сердцу. Ещё менее вероятно, что они прекратят делать детей. Напротив, скорее всего его идеи или будут проигнорированы или станут высмеиваться, – признаёт он. – «Я не хочу сказать, что мои оппоненты, продолжая совокупляться и размножаться, руководствуются садистскими или преступными намерениями. Их поведение – всего лишь свидетельство привычного равнодушия большинства людей к чужим страданиям». [68, с. 91]
Лучше не быть? Хотелось бы внести небольшое дополнение к этой формулировке Бенатара: лучше изначально не быть. А когда мы уже есть, всё становится весьма проблематичным. В том числе и в вопросе прекращения бытия. Тут, нам кажется, задействован не только инстинкт самосохранения, хотя это очень могучий механизм. Здесь и привычка жить (даже если жизнь совсем тяжкая), и еще кое-что. Опыт умирания дано пережить каждому из нас единожды. После чего двери закрываются наглухо – никому невозможно вернуться оттуда и поведать о своих впечатлениях. Другими словами, в умирании присутствует очень важный элемент неизвестности, некоей тайны. Мы не совсем уверены, что это идет от инстинкта: похоже, здесь мы имеем дело с разумом, который пытается понять, но понять это он не может и не сможет. А все неизвестное вызывает в нас тревогу. Поэтому мы и начинаем наши рассуждения с фраз «мне кажется», «мы думаем», «мы верим», «мы не верим» и т. д. Мы можем говорить только о своих ощущениях, предполагать, когда речь заходит о тайне жизни и смерти. Вот мы и предполагаем. И ощущаем. Что жизнь – многопечальное и обманчивое предприятие. Что изначально лучше бы было не рождаться. Что, появившись на свет, мы становимся заложниками существования, которое, в целом, не приносит радости и удовлетворения. Что мы ничего не можем с этим поделать – просто перетаскиваем себя изо дня в день, прилагая усилия для поддержания существования, пока смерть не положит всему этому предел. Что смерть – это полное и окончательное прекращение жизни индивидуума как биологического организма и как личности с её внутренним миром мыслей, чувств и эмоций.