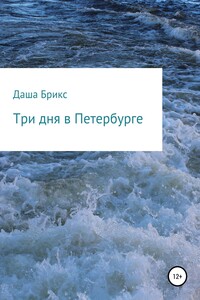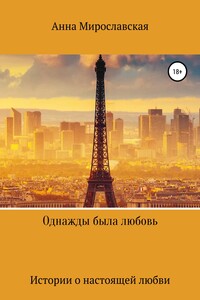Этика небытия. Жизнь без смысла: самая печальная философия | страница 101
Мир плох. Пока страдает хотя бы один человек, любой оптимизм становится глумлением над его страданиями. Лучше ничему не быть изначально, но бытие, хоть и условно, но есть, и есть мы. Смерть – это возвращение домой, это «вправление вывиха» пустоты, исцеление от боли жизни. А всё остальное (наверно, включая адвайту, при всей её привлекательности) – это более или менее неудачные попытки примириться с существованием, сделать бытие хоть в какой-то степени сносным. Возникают различные идеи, которые претендуют на роль недостающего звена между «ничто» и «нечто». Например, воля Шопенгауэра. Или Бог – неважно, как Он описывается. Или сознание. Тогда получается, что есть нечто большее, чем ничто, но возможно ли такое? Ведь даже христианские мистики говорят о ничто как предшествующем Богу. Отец Сергий Булгаков пишет: «В отношении к этому Ничто всякое бытие: божественное ли, или мировое и человеческое, есть уже некое что: в Ничто возникает что…» [9, с. 122] А Эмиль Сиоран замечает: «Над нами всегда кто-то стоит, и даже над Богом возвышается Небытие». [38, с. 78]
Практически каждый человек в своем подсознании скрывает нигилистические идеи. При этом вопрос стоит только так: выступить на стороне истины или на стороне жизни. Любой «нормальный» человек перед лицом такой дилеммы неизбежно выбирает жизнь, причём не столько под влиянием разума, сколько подчиняясь инстинкту. Как писал в этой связи Джек Лондон: «Инстинкт создаёт, выполняет работу видов. Разум критикует, разрушает, отрицает и заканчивает чистым нигилизмом». [21, с. 158] Поэтому истина последовательного нигилизма каждый раз представляет собою крайне индивидуальное, личное переживание. У каждого, кто решился заглянуть за пределы «наличной реальности», она своя. Философия небытия это одновременно танатософия.
Способно ли что-нибудь решить проблему страданий всего человечества? Атомная бомба? Этот вариант не обсуждался ни Шопенгауэром, ни Буддой. Любой опыт умирания является глубоко индивидуальным. Как говорил Морис Бланшо в эссе «Литература и право на смерть», главный недостаток окончательной смерти заключается в том, что она напрочь лишает человека возможности испробовать опыт умирания еще раз. [3, с. 61]
«Жизнь облечена в смерть и вместе с тем пронизана смертью; она с начала до конца окутана смертью, проникнута и пропитана ею. Итак, лишь при поверхностном и чисто грамматическом прочтении бытие говорит только о бытии и жизнь – только о жизни. Жизнь говорит нам о смерти, более того – только о смерти она и говорит. Пойдем далее: о чем бы ни зашла речь, в каком-то смысле речь идет о смерти; говорить на любую тему – например, о надежде, – значит непременно говорить о смерти; говорить о боли – значит говорить о смерти, не называя ее; философствовать о времени – значит, при помощи темпоральности и, не называя смерть по имени, философствовать о смерти; размышлять о видимости, в которой смешаны бытие и небытие, значит имплицитно размышлять о смерти…», – писал Владимир Янкелевич. [67, с. 99]