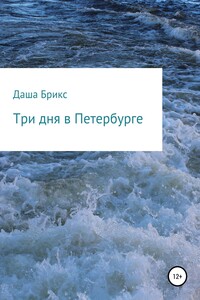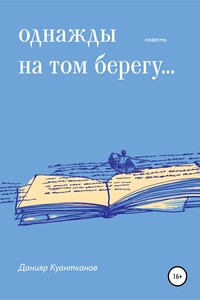Этика небытия. Жизнь без смысла: самая печальная философия | страница 100
Согласно адвайте, всё есть сознание. Оно же именуется «Я», или «высшее Я». Это основа проявленного мира, его сокровенный исток, глубочайшая сердцевина. Пападжи называет его пустотой, ничто, и в то же время – полнотой, бытием. На первый взгляд это кажется противоречием, но в контекст философии небытия такая идея вписывается: если мы говорим, что в абсолютном смысле ничего не существует, тогда можно сказать, что подлинно существует небытие, пустота, ничто. В этом смысле ничто – это бытие и полнота. Оно является нашей истинной природой. Адвайта учит, что невозможно увидеть его как какой-то объект, оно – и не объект, и не субъект, оно – то, что есть мы сами и всё вокруг. Ум, направленный вовне, на объекты, не способен приблизиться к своей собственной природе, к пустоте – такой ум захвачен иллюзией (Майей), а ум, обращённый к своему источнику, становится един с ним. Не случайно основной формой поучений Рамана Махарши было молчание, тишина. Нам, большую часть времени погружённым в разнообразные содержания и отождествляющимся со своими мыслями, стоит на мгновение остановиться и прислушаться к тому, что содержится в этом промежутке, к тому, что скрыто за мыслями. Там нет ничего, но именно в этом «нет ничего» и кроется разгадка. Это «нет ничего» бесконечно больше чем всё, вместе взятое! Всё из ничто и в нём.
Адвайта, при большом внешнем сходстве с философией небытия, в одном важном пункте расходится с ней. Если для индуса этот мир и его собственная жизнь – это проявление божества, абсолюта, атмана, пустоты, то для философа небытия это никакое не проявление, а некий непостижимый сбой, флуктуация, искажение, извращение, болезнь пустоты. У Рамана Махарши всё размывается в «я», стираются любые границы. Он говорит о «сат-чит-ананде» (реальности-сознании-блаженстве), присущей нашей изначальной природе. Но философ небытия видит границы и не видит «реальности-сознания-блаженства» по той причине, что в небытии не может их быть по определению, а в бытии они невозможны именно в силу того, что это бытие.
Само понятие «адвайта» («недвойственность») предполагает, что нечто все-таки есть: это Брахман, который проявляет себя через наше «я». Брахман реален, мир нереален, джива (индивидуальная душа) и Брахман – одно и то же. Действительно, Брахман адвайты очень напоминает шунью (пустоту) буддизма мадхьямики, в которой подлинной реальностью признается пустота, и о которой, как и о Брахмане, нельзя сказать ничего. То, что есть страдающие существа – тоже иллюзия: на высшей точке зрения все уже спасены, все находятся в пустоте (хоть и не все об этом знают), так же, как в адвайта-веданте все уже тождественны Брахману, нет ничего, кроме него. К тому же Брахман в адвайта-веданте – это мировое «я», в то время как шунья в некоторых вариантах буддизма есть союз ясности (сознания) и пустоты. Но такое наивное представление вызывает серьёзные сомнения. И вообще, встречающаяся у ряда современных учителей адвайты, частичная (с оговорками) реабилитация концепции «я» сильно напоминает еще одну скрытую форму реабилитации иллюзии бытия.