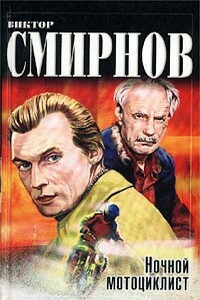Жду и надеюсь | страница 36
И пошли они той дорогой, которая недавно увела в лес пятерых разведчиков мокрыми колеями. Впереди — Павло, знающий этот путь как свою ладонь, за ним — дядько Коронат, ведущий в поводе лошадь с таратайкой, а позади всех — Шурка.
А на окраине села все еще стоят командиры, вслушиваясь и не улавливая уже никаких звуков: ночь поглотила маленькую группу, лес накрыл ее темной шапкой.
— Да…— покашливает Сычужный, и в голосе его, обычно звучном и твердом, легкий звон сомнения, как у надорванной струны. Он до войны в бухгалтерской и тихой жизни своей много щелкал на счетах, командир партизанской разведки. Никогда не нравились ему черные разделительные костяшки, прорезающие белые ряды. Но то были костяшки заметные. Не кинул ли он ненароком черное к белому сейчас, не разобравшись в цвете?
Батя кладет ему руку на плечо:
— Не мучайся, не грызи себя, Иван.
— Нет у меня полного доверия.
— Это понятно. Я, Иван, до войны много на эти темы размышлял. Знаешь, что я тебе скажу: недоверие — чувство, как бы тебе сказать… общее, что ли. Не доверять легче, тут ты людей сразу целой ярмаркой меряешь. Соседа, жену, сына, начальника, подчиненного… или там целую компанию: взял да и записал их в подозрительные. И сразу сам высоко стал. И чувство видное, для показа интересное. В зачет опять-таки идет. С недоверием даже дурень будет умным казаться, потому что для этого большого ума не надо, а для доверия нужна голова и чтоб там, в середке, не сто пудов дыму, а кое-что серьезное, потому что доверие идет к каждому человеку, а не к ярмарке, не к скопу, и, значит, каждого человека ты должен знать, душу понимать, для этого же работать надо так, что голова потеет. А, Иван?
— Так-то оно так,— бормочет Сычужный.
И как оно легко получается у Бати Парфеника — доброты не боится. Сычужный всегда опасался этого дурного свойства в себе и тщательно рылся в его корнях, чтоб истребить твердой рукой, как бодяк в огороде. Вот и в газетах, даже в тихое, мирное время, помнил Сычужный, всегда ругали ротозеев, тех, кто недоглядел, чужие слова на веру принял, чужой слезой позволил обжечься. А что к ротозейству приводит? Если разобраться: доброта, жалость, неклассовые, пустые понятия.
А вот Батя и пожалеть не боится. В отряде много таких, кто не прямым путем вышел к партизанам, а проплутав по вдовьим домам, чужим хуторам в поисках тихого угла, выхода из боя. Бывало, и полицаям Батя грех прощал, только приказывал выдрать, по народному обычаю. Но, было такое, и смертный приговор подписывал без дрожи в пальцах, и закорючка у него не расплывалась. Свой дебет с кредитом у Бати, своя бухгалтерия по части человеческих душ, и понять ее Сычужный старался, но не мог. Батя, случилось, свояка отправил к боженьке на полный разбор дела. Трудный случай был со свояком. Взяли его при атаке села, и был свояк Батин с полицейской повязкой и с карабином, но клялся и божился, что к немцам служить его силком завели и старался он, мол, об одном только: чтоб при первой встрече с партизанами удрать. Вызвал Батя свидетелей, дотошно расспросил, разузнал подноготную и сказал свояку, белому, как чищеная редька: «Что в полицаи заставили пойти — это может быть. Воля, она и недоброй бывает, как мачеха. И стрелять можно по злой чужой воле — верю. Но что ты в моих хлопцев стрелял прицельно, мушку в небо не задирал — вот тут ты волю свою, кум-своячок, сам и сотворил, сам за нее и ответишь». И подписал путевку Батя в невозвратный мир без колебания, не слыша плача и стенаний.