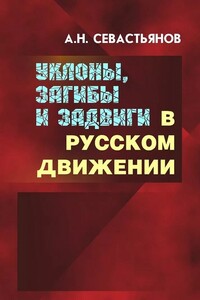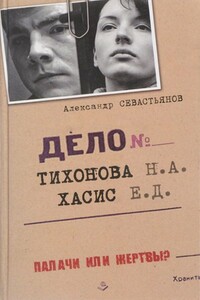Итоги XX века для России | страница 13
Во-первых, потому что невозможно вообразить себе условия, кроме планетарной катастрофы, которые могли бы отвратить и оторвать урбанизированное население от городской цивилизации и вернуть его в лоно сельской жизни и натурального хозяйства. Единичные исключения лишь подтверждают это правило. Как загнать обратно в деревню 40 % населения, занятого умственным трудом (именно таков его процент в США)? Или хотя бы 30 % (в России на 1989 г.; цифра примерная, точных данных за последние годы нет)? Как промышленных рабочих завербовать для сельского труда? А ведь их — более 50 % населения развитых стран… Это очень трудно.
Во-вторых, потому что в деревне попросту нет больше рабочих мест. Нет никакого экономического смысла восстанавливать деревенский контингент на уровне, скажем, конца XIX века. Научно-технический прогресс наших дней в области сельского хозяйства («зеленая революция») точно так же обесценил труд крестьян, работающих по старинке, как ткацкий станок — кустарный труд ткачей в XVII веке. Такой крестьянин уже не сможет производить товарный продукт, конкурируя с современной птицефабрикой или свинофермой, молокозаводом и т. д. Зачем занимать сто человек на работе, с которой справляются пятеро? Конечно, ряд высокоразвитых государств (Япония, США и некоторые другие) тратят огромные средства на поддержание занятости в своем сельском хозяйстве. Но это могут позволить себе только «передовики капиталистического производства», прошедшие на более раннем этапе безжалостную рационализацию этого самого производства, обогнавшие за счет этого других и тратящие теперь на социальную политику деньги, полученные от эксплуатации более слабых, менее развитых стран. Если ход прогресса превратил, допустим, 86 % населения (селян) — в 12 % или 3 %, если спрос на деревенский труд упал до такой степени, то как развернуть этот процесс, эти результаты вспять? Отказаться от достижений науки? Это непросто.
В-третьих, потому что капиталистическое хозяйство, как видно, вообще не нуждается в большом количестве крестьян, вполне удовлетворяясь наличием сезонных сельхозрабочих. По сути дела, крестьянство из класса превращается в постиндустриальном обществе в социальную диаспору, повторяя в строго обратном порядке путь пролетариата и интеллигенции, превратившихся из социальной диаспоры в класс. Социальные пропорции современных развитых стран, где крестьянство занимает скромные 3–5%, пролетариат 50–60 %, а интеллигенция 35–40 %, красноречиво об этом говорят. А тяжелый и малооплачиваемый физический труд, который только и делает рентабельным производство многих сельскохозяйственных культур (например, риса, чая, табака и мн. др.) вообще становится недоступен развитым странам. Недаром они все усилия прилагают к тому, чтобы закрепить за менее развитыми странами роль своего аграрного придатка, поставщика подобных продуктов.