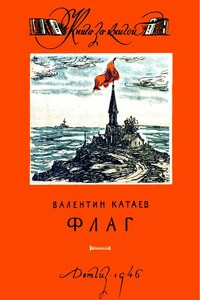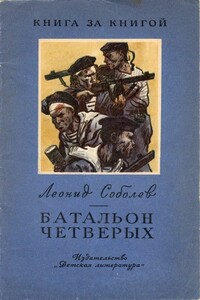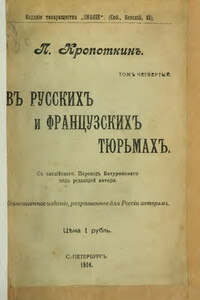Петропавловская крепость. Побег | страница 9
В пять часов вечера, а зимой в три, как только вносили крошечную лампочку, перья и карандаши у меня отбирались, и я должен был прекращать работу. Тогда я принимался за чтение, главным образом книг по истории. Прочёл я также много романов и даже устроил себе род праздника в сочельник. Мои родные прислали мне тогда рождественские рассказы Диккенса. И весь праздник я то смеялся, то плакал над этими чудными произведениями великого романиста.
ТЮРЕМНАЯ ЖИЗНЬ
Хуже всего было полное безмолвие вокруг, невозможность перекинуться словечком с кем бы то ни было. Мёртвая тишина нарушалась только скрипом сапог часового, подкрадывающегося к «иуде»[15], да звоном часов на колокольне. Я понимаю, что нервного человека этот звон может доводить до отчаяния. Каждые четверть часа колокола звонят «господи помилуй», раз, два, три, четыре раза. Каждый час после медленного перезвона колокол начинает мерно отбивать часы, а затем начинается перезвон «Коль славен наш господь в Сионе»; зимою, при резких переменах температуры, все колокола отчаянно фальшивят, и эта какофония[16], точно похоронный перезвон в монастыре, длится добрых пять-шесть минут. А в двенадцать, после всего этого, часы отзванивают ещё более фальшиво «Боже, царя храни». Днём всё это хоть немного заглушается городским шумом, но ночью весь этот звон как будто тут, где-то вблизи, и, слушая бой колоколов каждые четверть часа, невольно думаешь о том, как прозябание узника идёт бесплодно вдали от всех, вдали от жизни. «Ещё час, ещё четверть часа твоего бесплодного прозябания прошли», — напоминают колокола, и никто не знает, даже сам, кто тебя здесь держит, сколько ещё пройдёт таких бесплодных часов, дней, годов… много годов, может быть, раньше, чем вспомнят тебя выпустить, или болезнь и смерть откроют тебе двери тюрьмы…
Мёртвая тишина кругом…
Напрасно пробовал я стучать в подоконницу направо — нет ответа, налево — нет ответа. Напрасно стучал я полною силою разутой пятки в пол в надежде услыхать хоть какой-нибудь, хоть издалека, неясный ответный гул — его не было ни в первый месяц, ни во второй, ни в первый год, ни в половине второго.
Меня перевели в нижний этаж, покуда верхний чистили или переделывали. Ещё меньше света проникало там в каземат, и неба вовсе не было видно; только грязная серая стена из дикого камня стояла перед глазами, и даже голуби не прилетали к окну. Ещё темнее было мне чертить свои карты, и только мои крепкие близорукие глаза могли выдерживать мелкую работу на маленьких картах, которые я готовил для своего отчёта.