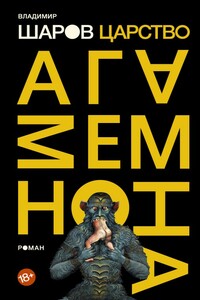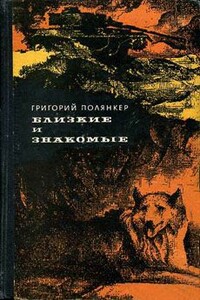Обитатели потешного кладбища | страница 30
Лицей находился недалеко от нашего дома, очень скоро меня стали отпускать одного, иногда я спрашивал у мамы немного мелочи. Какое давнее воспоминание! Поражаюсь, что оно сохранилось. Закрываю глаза, боюсь упустить, вижу лицо мамы, чувствую ее руки на моих плечах, аромат легких духов овевает мое лицо, мамины волосы падают мне на лоб, когда она меня целует, слышу, как щелкает кошелечек… и падает монетка! Это видение такое же хрупкое, как те старинные елочные игрушки, которые находишь на антресолях и долго, осторожно разворачиваешь, гадая, уцелела она или ты сейчас найдешь осколки. «Что ты с ними делаешь, Альфред?» После окончания занятий возле коллежа нас караулили бедняки, просили подаяния, я подавал маленькой старушке-оборвашке, она походила на тряпичную игрушку, до сих пор помню ее голосок: «Vous n'auriez pas deux sous, mon petit m-sieur?[13]» – «Я ей подаю, мама». Мама обняла меня и долго не отпускала, тискала и шептала нежные слова. Мне было одиннадцать. Теперь мне семьдесят два. Я закрываю глаза и возвращаюсь в те мгновения. Мне все еще необходимо ее призрачное присутствие. После стольких лет, стольких метаморфоз… Мне нужно ощутить ее губы на моей щеке. Ее поцелуй очищает мое сердце от скверны, напоминает мне о том, кто я есть.
Мир в те дни был более пестрым и более целостным: стены были стенами, плотными, твердыми, несокрушимыми, крыши могли отразить какой угодно удар, грозы, штормы, наводнения были не страшны, приезжал папа, и мы катались на авто. Несомненно, это воспоминание – послание с Елисейских Полей: там всегда было пыльно. На авеню Фош, по пути в Булонский лес, часто приходилось прикрывать лицо платком и щуриться. Удерживаю кадры прошлого дрожащими ресницами, стараясь не заплакать.
Благополучие нашей семьи строилось отнюдь не на папиной смекалке. Перед отбытием во Францию мама продала фамильное имение и еще какую-то мануфактуру, что вызвало сильную критику со стороны всех ее родственников, этим и объяснялось их категоричное нежелание с нами поддерживать отношения. Я об этом узнал в середине двадцатых, когда мама забегала в банк, спасая остатки нашего состояния, – кое-какие ценные бумаги и драгоценности я получил в наследство после ее смерти, благодаря чему на фоне общей эмигрантской бедности я мог более-менее беспечно существовать вплоть до начала оккупации (разумеется, я испытывал горечь и известную долю смущения, часто ссужал, иногда не тем людям).