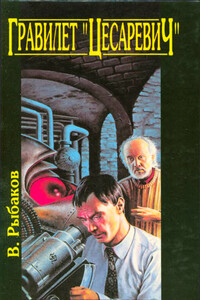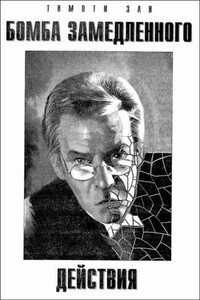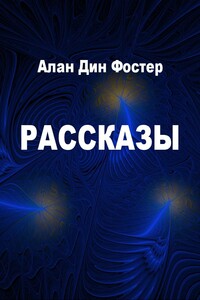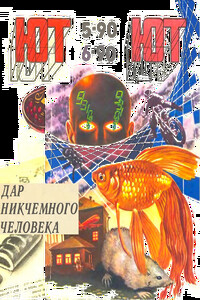Кружась в поисках смысла | страница 6
Однако многотысячелетний опыт постепенно убедил, что отношения с высшим миром не столь просты и что попытки управлять им, как миром мотыг и топоров, то и дело терпят крах. Одни и те же действия, предпринимаемые в отношении богов, приводили к совершенно различным результатам - точно так же, как в мире людей. Да и мир людей усложнялся, меняя стереотипы заимообразность уступила место классовой неравномерности.
Но для мира людей путь к косвенному управлению друг другом был уже нащупан - этика. И единственный путь к преодолению аморальности орудий тоже ощущался: хорошего человека слушается, плохого - нет. Управление богом, очевидно, требовало не отдельных, предпринимаемых лишь в случае необходимости актов - оно могло быть достигнуто только путем этической организации всего поведения и, поскольку бог наблюдает постоянно и контакт с ним непрерывен, даже поведения наедине с собой, даже поведения внутри себя. А успех или неуспех управления богом, то есть осуществление или неосуществление желаний, стал знаком успеха или неуспеха этической организации поступков и движений души. Неуспех стал означать недостаточную этичность поведения; стремление к успеху требовало этического совершенствования.
Но желаемая точность управления не достигалась никогда. И отчаянная погоня за полным подчинением бога вела к развитию и усложнению этических конструкций и их поведенческой реализации. Можно сказать, что отсутствие жестких связей между поступками и реакцией свыше - то есть между поведением и его результатом - явилось толчком к развитию всей духовности человечества.
А когда стало ясно, что конкретному человеку до самой смерти не дано узнать, эффективным ли было его управление богом и что жизнь - это игра вероятностей, и бог, следовательно, вероятностная машина, успешность работы которой не может быть точно измерена и интерпретирована; когда, как следствие, возникла упрощающая идея о том, что воздаяние за ориентированное на бога поведение достанется другому "я" ("я" за гробом, "я" в перевоплощении, "я" в детях), начала складываться другая великая матрица сознания матрица цели, более высокой, нежели личное существование, матрица жизни для. Биологически она опиралась как на инстинкт самосохранения, так и на инстинкт продолжения рода, и духовно как бы сплавляла их воедино. Жизнь для - это благороднейшая из методик управления. По сути, высокая цель тоже есть лишь орудие, этичное срабатывание которого ожидается в форме неопределенной благодарности, в форме признания целью грандиозной важности для себя жившего для нее человека. Но установка на благодарность, именно в силу неопределенности этой благодарности, практически не осознается и не влияет на поведение; благо цели постепенно занимает все помыслы и при конфликте блага цели с благодарностью человек нередко отдает цели приоритет, в том числе самым решительным образом жертвуя своей жизнью для. Всякая же попытка наладить наконец жесткое управление, потребовав благодарности впрямую, свидетельствует о том, что "жизнь для" была корыстным лицемерием или недолгим детским заблуждением, и обязательно кончается крахом: цель либо наказывает неблагодарностью, либо становится управляемой и теряет свою высокую функцию обогатителя души.