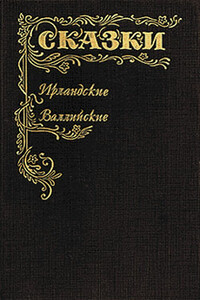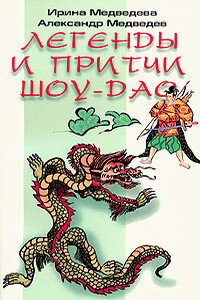Верховные боги индоевропейцев | страница 142
ности со всеми несправедливостями, которые она влечет за со-
бой; 3) стать слишком требовательными к комфорту; 4) уви-
деть, как тяга к богатству рождает у них фракции и раздоры;
5) наконец,— позитивный аргумент — равная собственность, го-
ворили они, может удовлетворить и сдержать плебс, поскольку
«каждый видит, что у него столько же имущества, сколько и у
наиболее могущественного».
Таким образом, митраические черты есть и у Улля и у Mitothyn,
но то, что их отношение к Одину — враждебность, а не
дополнительное распределение, что здесь имел место временный
захват власти, а не сотрудничество или следование во времени,
как и то, что только Саксон приводит эти романизированные
мифы, не позволяет прийти к определенному заключению.
7. Запасные верховные боги
Весьма неравная пара, которую образуют Один и Тюр, не
находит подкрепления ни в каком младшем верховном боге: в
первой, темной части истории мира доминирует только Один,
Тюр столь же одинок в оставленной ему области; и тот и дру-
гой, как почти все боги, ждут своей окончательной гибели в
катастрофе, после которой возникнет лучший и даже прекрас-
нейший мир, возглавляемый другим поколением богов34: сы-
новья Тора найдут молот отца, дочь богини Солнца заменит
мать, а два сына Одина, Бальдр и Хёд, примут на себя функ-
цию отца. Для них это будет и счастливой развязкой большой
личной драмы, потому что сначала Бальдр и Хёд входили в мир
Одина, но и тот и другой были поражены роковым стечением
обстоятельств: Хёд был слеп, а одной из особенностей статуса
Бальдра, светлого, чистого и справедливого Бальдра, была та,
что его приговоры не «держались», не исполнялись. Хуже того,
демонический Локи осуществил коварный план, отправив их в
Хель, страну тех мертвых, которым не посчастливилось пасть
в битве; там они и ожидают эсхатологического сражения, в ко-
тором не будут участвовать, но которое приведет их к возвра-
щению на свет и к царствованию сообща.
В другом месте я35 привел доводы в пользу истолкования
этих двух персонажей — молодого и слепого — как завершения
младших верховных богов, облик, место, предназначение кото-
рых трансформированы эсхатологическим вмешательством: па-
ра не использованных в Риме, как и в Ведах, категорий, пред-
варительность и окончательность, плохо упорядоченное «до» и
успешное «после» вызвали иное распределение верховных бо-
гов. Можно было бы попытаться увидеть в этой перемене специ-
фику именно скандинавской теологии, если бы в Ирландии