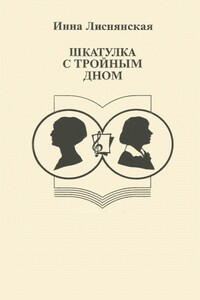Хвастунья | страница 44
— У тебя, мам, вон сколько времени на писание есть, а у меня?
С этого полувопроса и начнется наше обсуждение ее суматошной, перегрузочной не то писателя, не то исследователя жизни и к утру подойдет к проблеме перевода книги «Фридл», и я вкратце повторю в Балагане смысл половины последней гармошки моего письма:
— И как у тебя, хрупенькой, хватило сил раскопать по разным архивам столько живых писем сожженной Фридл? Удивляюсь тебе, — ты выискала столько ее картин по всему миру! Наконец, ты нашла столько рисунков детей, которых она в гетто учила и с которыми пошла в Освенцим. А сколько свидетелей концлагерной жизни в Терезине, случайно уцелевших, ты разыскала, чтоб расспросить. А теперь еще нашла следы тех, кто читал лекции в Терезине, да и сами лекции нашла. Семен Израилевич читал начало твоей книги об этих разнотематических лекциях и биографии лекторов и сказал, что ты создаешь культурный Архипелаг Гулаг еврейского народа… Двигаешь, у нас с Липкиным нет слов, подвижническое дело. А с переводом книги в конце концов все утрясется. А без сучка и задоринки ничего в жизни не бывает. А жизнь у тебя, слава Богу, почти феерическая — весь мир облетала то с выставками, то с лекциями. Но главное, детка, не надрывайся! У тебя такой объем работы, что хватило бы на целый исследовательский институт. Не надрывайся, моя маленькая, — и все будет хорошо! — и тут я испуганно замолкну. Во-первых: «моя маленькая» может взбудоражить в Лене алогичные воспоминания о детстве, где я либо ничего для нее не делала, либо делала чрезмерно и не так. Во-вторых: «все будет хорошо», — фраза, которую, скорей всего, не себе, а своему ближнему или не ближнему, как правило, адресует безразличный себялюбец. Правда, теперь эта фраза стала наподобие — «здрасте и до свиданья». Или как какое-нибудь вводное, мало что значащее. Или — слоган.
У нас с Марией Сергеевной Петровых была одна такая знакомая себялюбица, оформительница книжек, переводимых со всех языков народов СССР. Она частенько с мужем отдыхала в доме творчества и, когда бы у кого чего ни случалось, подходила и, положив нежную руку на плечо переживающего, нежно-внушительно обещала: «Все будет хорошо!». А если переживающий был высокого роста, клала руку ему на плечо, когда тот сидел в столовой или курил в углу под лестницей: «Все будет хорошо!». Мы с Петровых, а она в Переделкине часто по два срока проводила, обратили внимание на эту привычку оформительницы, но относились по-разному. Я уверяла Петровых, что это от полнейшего равнодушия или, в крайнем случае, из нежелания слушать чужие жалобы, а в лучшем случае — из мнимой воспитанности. Петровых сердилась, чуть надменно выдвинув нижнюю губу: «Вы всегда дурное в человеке видите, а наша „Все будет хорошо!“, между прочим, пять лет тому тяжелую операцию перенесла!». Тут уже мне крыть нечем. Нет, Петровых далеко не благодушна, но у нее есть слабость, — если человек нездоров, — он уже хороший. Бывало, в особенности когда я у нее по неделям жила меж прибытием с Липкиным из Малеевки, Средней Азии или с Северного Кавказа, или даже из Бурятии и получением путевки в Переделкино, Мария Сергеевна показывала мне в очередной раз публикацию стихов одного из наших общих знакомых, мол, взгляните, как наблюдательно-детально природу описывает, а я в очередной раз не соглашалась: «Мари Сергевна, человек он действительно достойный, но этого для стихов недостаточно». А она, выдвигая тонкую, но выразительную нижнюю губу, делалась надменной, и в ход шел ее главный козырь: «Вы забываете о том, что он не только порядочный человек, но и больной, да и жена у него болеет!». Наверное, Петровых и мои вирши сверх меры расхваливала не одной мне, но и Липкину, и многим потому, что я не умею пользоваться общественным транспортом и по улицам пешком передвигаться и потому, что я ей сказала, что прошла сумасшедший дом. Или потому, что я развелась с мужем, а Липкин, хоть и прочно любит меня, но от первой жены вот так сразу да еще в никуда уйти не решается, несмотря на то что в его доме о нас с ним все известно. О диагнозе же и подробностях функциональной неврологии я поначалу не распространялась, не хотела грузить своими ужасами тоненькую до воздушной хрупкости Петровых, но сам факт моего там единичного пребывания будоражил ее, — что во мне такого ненормального? То, что я передвигаюсь только на такси, по ее мнению, — ничего особенного. И она утешала меня примером: «Ахматова тоже не могла улицы переходить. А великий поэт! И какая при этом ясная голова!».