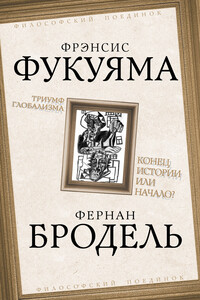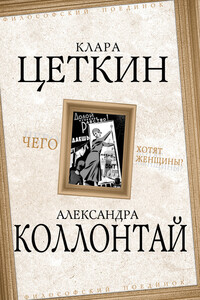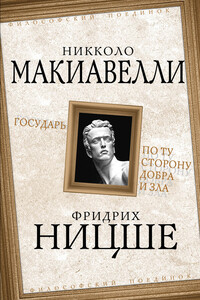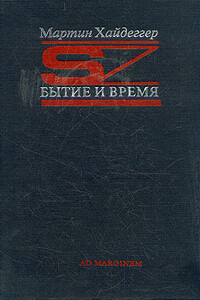Ницше и пустота | страница 72
В качестве характеристики существа всякой метафизики мы можем поэтому ввести рубрику бытие и мышление, четче: существование и мышление; в этой формулировке выражено, что бытие понимается по путеводной линии мышления, исходя от сущего в направленности на сущее как его «наиболее общее», причем «мышление» понимает себя как высказывающее оказывание. Это мышление сущего в смысле «самораскрывающегося и изготовляемого присутствия» остается путеводной нитью для философского мышления о бытии как существовании.
Рубрика бытие и мышление имеет силу также и в отношении иррациональной метафизики, называющейся так потому, что она возгоняет рационализм до заострения и отнюдь не избавляется от самой себя, подобно тому как всякий атеизм вынужден больше заниматься богом, чем теизм.
Поскольку в том, что Ницше называет «космологическими ценностями», дело идет о верховных определениях сущего в целом, постольку Ницше может заговаривать и о «категориях». Что эти верховные ценности Ницше без дальнейшего прояснения и обоснования именует «категориями», понимая категории как категории разума, показывает, насколько решительно его мысль движется в колее метафизики.
Выбирается ли Ницше за счет того, что понимает эти категории как ценности, из колеи метафизики, по праву ли он характеризует себя как «антиметафизика» или же он тем самым лишь доводит метафизику до ее окончательного завершения и оттого сам становится последним метафизиком – это вопросы, на пути к которым мы пока еще только стоим, но ответ на которые теснейше связан с прояснением ницшевского понятия нигилизма.
Второе, что прежде всего необходимо для истолкования текста заключительной фразы раздела А, – это замечание о способе, каким Ницше здесь, подытоживая, именует три категории, служащие для интерпретации сущего в целом. Вместо «смысла» он говорит теперь «цель», вместо «целого» и «систематизации» он говорит «единство», и, что самое решающее, вместо «истины» и «истинного мира» он говорит здесь напрямую «бытие». Все это опять без какого-либо пояснения. Нам, однако, не надо удивляться отсутствию пояснения употребляемых тут понятий и имен. Перед нами в этом фрагменте в качестве наброска лежит не раздел книги, предназначенной для «общественности», ни тем более раздел учебника, но диалог мыслителя с самим собой. Он говорит при этом не со своим «Я» и со своей «личностью», он говорит с бытием сущего в целом и из круга того, что уже было прежде сказано в истории метафизики.