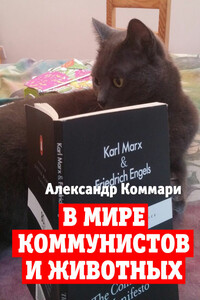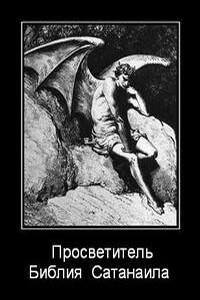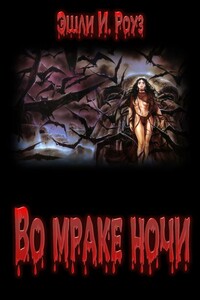Experimentum crucis | страница 4
— Но! — торжественно сказал профессор и на экране появилось изображение бело-голубого земного шара. — Решающий эксперимент, экспериментум круцис, как я полагаю, все-таки уже сделан. И сделан он на Земле, и не в микромире и не в макромире. И он, увы, дал отрицательный ответ на вопрос, являемся ли мы симуляцией.
Все оживились.
На экране появилось изображение Ленинграда с высоты птичьего полета.
— Ровно как мы ищем разрывы в фактуре реальности или артефакты или ошибки или обрывки пустого кода, мы таким же образом можем исследовать реальность в ее временном измерении, еще точнее — историческую реальность. И если мы найдем в ней нарушения неких законов, то мы можем говорить об искусственном характере нашего мироздания.
Город приблизился, и стало видно, что это какая-то компьютерная реконструкция событий октября 1917 года — толпы с флагами, костры, грузовики с вооруженными людьми, серые корабли с пушками, наведенными на тонущие в тумане дворцы, матросы в черных бушлатах.
— Так вот, группа историков-марксистов, нейролингвистов и математиков из Москвы, Эр-Рияда и Кабула попробовали создать глобальную историческую модель развития человечества в двадцатом веке. Естественно, не детализированную до отдельных личностей — наши возможности в компьютерных технологиях еще этого не позволяют, однако все равно крайне подробную, то есть созданная ими модель оказалась очень детальной и, что самое главное, прогностически крайне продуктивной. Затем, моделируя ситуацию уже для отдельно взятых стран и классов, страт и групп, они потом проверяли, как там события развивались в реальности — и поразительным образом предсказанное, так сказать, наоборот, совпадало с тем, что происходило на самом деле, при этом на низком уровне, то есть даже небольших стран или социальных групп.
В голосе профессора прозвучало удовлетворение.
— Так вот, артефактов или разрывов в исторической реальности не выявлено.
— А как такой разрыв выглядел бы? — спросила белобрысая молодая девушка. Легкий акцент выдавал в ней эстонку или финку.
— Возьмем нашу страну. Было несколько критических точек, в которых могли бы произойти такие разрывы. Одна из них — смерть основателя Советского государства Владимира Ленина. Даже людям вроде меня — для которых история есть не более чем увлечение — можно представить, что после ухода столь крупной фигуры среди его преемников могла бы начаться борьба за власть. При отягощенности страны столь тяжелым историческим наследием эта борьба могла бы принять крайние формы — как, например, это случилось во Франции, во времена французской революции. То есть — просто наугад — Троцкий, например, вступает в конфликт со Сталиным и уничтожает его и его сторонников, или кто-то другой — Бухарин, Каменев, неважно — начинают борьбу за место единственного наследника ушедшего Ленина. Но нет, ничего подобного не происходит — руководство наоборот крайне консолидируется, деструктивные фигуры ограничиваются в своей возможности вызвать раскол — и эта критическая точка проходится так, как и предсказывает модель.