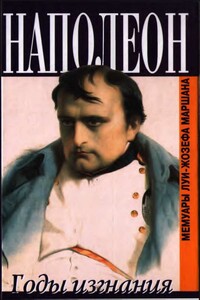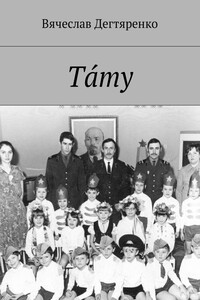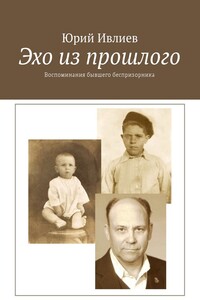Житие святого Северина | страница 42
Второй удар по вашим душам, тяжелее первого…
Нет, я не утратил разум, и не Дьявол в облике моём искушает вас. Просто пришло время снять перед вами маску. Слушайте, запоминайте, но никто и никогда не должен услышать от вас сказанного мною — для всех я святой Северин, муж Божий, апостол Норика. Никто и никогда — ещё и потому, что взяться за такое дело, какое все эти годы делал я, может только человек особой подготовки, особо обработанный и особо закалённый. Если такой будет — сам додумается и возьмёт на плечи свои такой груз, а так мой пример покажется уже протоптанной тропой, свернут на эту тропу люди, неготовые к хождению по ней, сами погибнут и других погубят. А вот шедшим со мной и обречённым продолжать мой путь, ведя по нему идущих за мною — знать нужно. Почти тридцать лет я вёл свою войну одним своим разумом, вы были лишь моими руками, глазами, ушами, голосом. Ныне пришёл ваш черёд стать разумом Норика, а значит — вы должны ясно видеть ту цель, которая теперь близка, но до которой мне не дойти и ведомых мною не довести. Но для этого вам нужно узнать и то, как я дошёл до понимания этой цели как единственно возможной для римлян Норика. Кстати на будущее: во всяком деле начинайте с истории. Узнав, что было раньше, поймёте происходящее сейчас и сможете угадать, чего ожидать от будущего…
Помните — пресвитер Примений, духовник убитого Ореста, спросил у меня как-то — кто я по происхождению? Я тогда отшутился, что если я окажусь беглым рабом, то надеюсь, что он, ценя меня, поможет откупиться от господина, когда тот меня найдёт… И сейчас не скажу я вам своего имени — незачем, я останусь в памяти людей Северином из Норика… Но мой род — старинный сенаторский род, и предки мои сообща боролись против Гракхов и били друг друга во времена Мария и Суллы, Цезаря и Августа. А потом, в разгар Маркоманнской войны, кто-то из них — я не знаю точно его имени — понял страшную истину. И он сумел собрать всех мужчин своего рода на тайный совет и сумел на этом совете убедить остальных, что Римский Мир уже достиг вершины своего могущества и начал спускаться навстречу гибели. Эта мысль их не испугала, а заставила думать и действовать. Она передавалась от поколения в поколение — в тайне, конечно. Внешне — гордые сенаторы, военачальники и чиновники, обладатели огромных богатств, а в душе — «последние римляне», как стали говорить в последние десятилетия. Так и Аэция называли, но он, пожалуй, в конец не верил, надеялся выкарабкаться сам и Рим вытащить — для себя и своих детей и соратников, а не для Рима и римлян, а в нашем роду твёрдо знали, что конец приближается. Искали выход — в людях, в старой вере, в христианстве, во введении в своих владениях колоната, в смене императоров, нередко оказываясь во враждующих лагерях, но не трогая друг друга и близких людей, коих старались подбирать по душевным качествам и деловой полезности… Выхода не было, была лишь оттяжка в лучшем случае, как вижу теперь я, как несомненно видели и они даже в миг большой жизненной удачи, в миг торжества того дела, коему они служили. Ну и что же? Кто в разгар битвы поручится, что оттяжка разгрома твоего отряда не окажется спасительной, что сила врага не иссякнет, натолкнувшись на бешеное сопротивление одолеваемых им, но не сдающихся людей? Нужно сражаться до конца и вкладывать до последней капли крови и до последнего дыхания свою жизнь в дело, которому ты служишь. Тогда — не ты, так твои соратники если не победят, то хоть предотвратят полное уничтожение своего войска и тех, кого оно прикрывает. Моему отцу выпало жить в страшное время, мне — в ещё более страшное. Он это предвидел и старался подготовить меня — на большее у него, искалеченного в схватке с вандалами, не было сил… Мне было четыре года, когда умерла мать. Она умерла в Риме, а мы с отцом были тогда в нашей вилле под Неаполем, за много миль, но что-то сжало моё сердце, я почувствовал беду, закричал, забился, как никогда до того. Отец запомнил это и, когда пришла весть о смерти матери и о времени, когда она умерла, сумел сопоставить два факта… Он не женился вновь, а посвятил остаток жизни мне — позже я узнал, что он не надеялся прожить и пяти лет, но сумел заставить себя прожить десять лет с небольшим… Он понял, что я наделён свойственной многим, но у большинства людей не раскрывающейся полностью особой чуткостью души. Египтяне ещё при фараонах знали эту тайную силу и умение её использовать называли «сэтэп-са», она была подвластна и орфикам древней Эллады, и нагим мудрецам Индии, и кое-кому из варварских жрецов, колдунов, знахарей… И он стал развивать её во мне, но я долго этого не знал, как не знал и того, что заполнившие всё моё детство постоянные упражнения тела, духа и разума показались бы дикой блажью детям и взрослым из близких к нам по положению в империи семей. Я просто не знал этих детей, не бывал в чужих семьях в гостях или по делу лет до десяти. К восьми годам рабы-педагоги, которым отец пообещал за усердие свободу и большую награду, обучили меня сверх всех тонкостей латыни и греческого ещё арамейскому, коптскому, готскому и еврейскому языкам. Два ветерана-воина, пригретые отцом, учили меня всему, что должен знать пехотинец и конник, у меня был маленький конёк, был доспех воина и было оружие всех видов. Рабы из гончарной, кузнечной, ювелирной мастерских — тоже по приказу отца — раскрывали мне тайны своих ремёсел, а плотник и каменщик просто-напросто учили владеть своими инструментами и работать по-настоящему. Неудивительно, что эту келейку я возвёл сам: умение работать осталось с детства навсегда. И вилик отца растолковывал мне тайны ведения хозяйства, а однажды даже поведал способы обогащения за счёт хозяина — по секрету от отца, конечно, но позже я узнал, что отец в этом тоже смыслил и многие его проделки в этой сфере знал, но прощал за верность. И врач наш учил меня распознавать болезни и готовить лекарства из трав, приучал к виду больных, к терпеливой борьбе с человеческими страданиями. А сам отец, следя за всем перечисленным и моими успехами в этих делах, читал мне и объяснял книги философов и историков, агрономов и географов, писателей и поэтов. Он не заставлял меня заучивать, например, речи Цицерона, но объяснял их смысл и причину их произнесения. Кстати, Катилину он уважал больше, чем Цицерона, хотя признавал, что был бы скорее с Цицероном в те дни, ибо Катилина возглавлял не ту силу, на которую стоит ставить в дни, подобные тогдашним… А вот в Священном Писании он меня не наставлял. Просто велел заучить несколько молитв, показал подобно актёру, как надо молиться на людях, как вести себя в будни и в праздники, как в посты, велел вести себя так-то и так-то, запретил ввязываться с кем бы то ни было не то что в споры, но даже в разговоры о Боге, о Христе, о древних богах, обо всём, что связано с верой — до его разрешения.