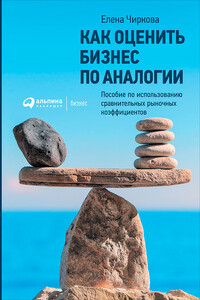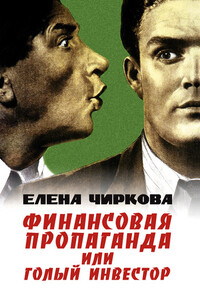От золотого тельца до «Золотого теленка». Что мы знаем о литературе из экономики и об экономике из литературы | страница 73
Купцы, арендовавшие золотые прииски, как правило, владели еще и винокурнями, продукцию которых сбывали своим же рабочим. Доход это приносило зачастую не меньший, чем сама добыча, и, в отличие от нее, верный. Занимались они также хлебом, чаем, сахаром, табаком, бакалеей, гастрономией, керосином, обувью, готовым платьем, пряжей и пр. По данным за 1910 год, почти 95% золотопромышленников средних сословий владели еще какими-то предприятиями. «И побочными от золотопромышленности доходами, не рискуя, прожить можно». В этой фразе, написанной в начале прошлого века, ключевое понятие – «не рискуя».
Владельцы приисков относились к своим работникам по-разному. Одни строили в поселках церкви, школы, больницы, бани, сносно кормили людей, полностью запрещали продажу водки. Другие обращались с рабочими как со скотом, селили в чудовищных бараках, спаивали, причем не только чтобы нажиться, но и с целью притушить социальный протест. Невыносимые бытовые условия рабочих ярко описаны в романе Вячеслава Шишкова «Угрюм-река» (1933), где повествуется о предыстории расстрела рабочих, организовавших стачку на Ленских приисках 1912 года.
Непосильный труд был уделом и старателей. Мамин-Сибиряк пишет: «Бабы в брюхе еще тащат робят на прииски… потом, чуть подрос, – садись на тележку, вози пески, а потом… полезай в выработку». При всем том заработки уральских старателей были в среднем раз в десять выше, чем у крестьян, а на Амуре и того больше: неопытный старатель без специального снаряжения на дневную добычу – пять-шесть золотников – мог купить почти пуд мяса. Кажется много, но эта цена значительно превышала ту, которую пришлось бы заплатить на обычном рынке. В «Желтуге», например, в сравнении с соседним Благовещенском цены были выше в 2–5 раз: мясо – 12 руб. против 4 руб. за фунт; сухари – 10–11 руб. против 3,2 руб.; топор – 10 руб. против 5 руб.; лист кровельного железа – 10 руб. против 1,1 руб.[24]
Связано это было как с монополизацией поставок (независимых торговцев гоняли, подключая полицию), так и с высокими расходами на транспортировку грузов. В Сибири расстояние от магистральной дороги до прииска могло составлять и тысячу верст. Двигаться зачастую приходилось по просекам, а то и по охотничьим тропам, проложенным сквозь густую тайгу. Телеги для этого не годились – использовали вьючных лошадей. А ведь доставлять нужно было не только продукты, но и инструмент, материалы, фураж для рабочих лошадей. Останавливались обозы на зимовьях, где за ночь с проводника и двух лошадей могли запросить рубля четыре – стоимость хорошей пары женской обуви. В 1885 году, когда вспыхнула золотая лихорадка на Амуре, тамошние вольные ямщики брали по 15 руб. «за одну станцию» – перегон в 25–30 верст.