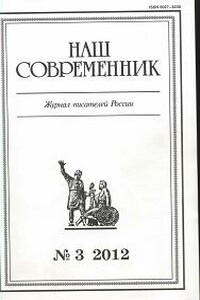В переплёте | страница 71
Ломоносов воцарился в литературе, и русским поэтам понадобилось почти столетие, чтобы преодолеть его влияние. Пушкин, восхищавшийся Ломоносовым, называвший слог его ровным, цветущим и живописным, в то же время утверждал, что «в Ломоносове нет ни чувства, ни воображения. Оды его, писанные по образцу тогдашних немецких стихотворцев, давно уже забытых в самой Германии, утомительны и надуты. Его влияние на словесность было вредное и до сих пор в ней отзывается. Высокопарность, изысканность, отвращение от простоты и точности, отсутствие всякой народности и оригинальности – вот следы, оставленные Ломоносовым». Однако сам Пушкин испытал на себе заметное влияние Ломоносова. Не говоря уже о лицейских стихотворениях, влияние это заметно и в более поздних его произведениях.
Вот, например, перевод Ломоносова из Горация (1747 г.):
Разве не отзывается это у Пушкина?
Исследователи отмечали и другие примеры:
(М.В. Ломоносов. «Ода на прибытие Ея Величества великия Государыни Императрицы Елисаветы Петровны из Москвы в Санкт-Петербург 1742 года по коронации», 1742 г.)
(А.С. Пушкин. «В часы забав иль праздной скуки…», 1830 г.)
(М.В. Ломоносов. «Ода, выбранная из Иова»,
1743–1751 гг.)
(А.С. Пушкин. «Подражание Корану», 1824 г.)
Но не только образы и поэтические формулы, найденные Ломоносовым, привлекали его последователей. Ломоносов с его нечеловеческой способностью обнимать необъятное, создал огромный поэтический мир, выразив всю палитру человеческих устремлений. Это поиск истины и восхищение тварным миром («Утреннее размышление о Божием Величестве», 1743 г., «Вечернее размышление о Божием Величестве», 1743 г., «Устами движет Бог…», 1747 г.); это любовь к Отечеству и попечение о его благе («Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны, 1747 года»); это нежные чувства и печаль одиночества («Стихи, сочинённые на дороге в Петергоф», 1761 г., переложения псалмов); это интерес к истории и её переосмысление («Тамира и Селим», 1750 г., «Пётр Великий», 1761 г.) и многое другое. Тем самым Ломоносов задал направления для своих последователей в литературе.