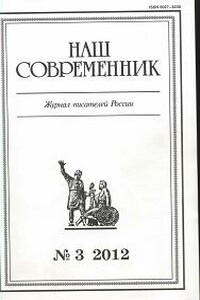В переплёте | страница 70
Литературой Белинский предлагал считать словесность, исторически развившуюся и отражающую в себе сознание народа.
Всякий народ, даже и находящийся за пределами цивилизации, имеет словесность, выражая в той или иной форме свою историю, религиозные представления или житейскую мудрость. Но отнюдь не каждый народ имеет свою собственную литературу, то есть непрерывный и последовательный процесс выражения мысли в слове, зафиксированном при помощи письменности.
Даже если, обладая письменностью, народ доверяет букве образцы своей словесности, это ещё не свидетельствует в пользу существования литературы, которая не может быть представлена одинокими или разрозненными именами. Точно так же, как одно написанное стихотворение не даёт человеку права называться поэтом. А разбросанные по разным углам страны народные изобретатели и умельцы не представляют собой научного сообщества.
Именно последовательность, непрерывность в развитии, взаимовлияние – в том смысле, что каждое значительное произведение есть результат предыдущих наработок, а равно источник последующих вдохновений, – и, кроме того, обозначенное авторство составляют характеристику литературы. Как только нет исторической связи явлений, как только произведения словесности оказываются по отношению друг к другу событиями случайными, нет и литературы.
В самом общем смысле литературой принято называть словесность вообще. И говоря о русской литературе, сюда же отнесут и «Слово о полку Игореве», и «Повесть о Карпе Сутулове», и летопись «Повесть временных лет». Но как явление культуры, сравнимое с наукой или философией, как «самостоятельная область умственной деятельности», по слову Белинского, литература требует более чёткого определения и более жёстких границ.
Именно с Ломоносова элементы русской словесности вдруг сцепились и заворочались вместе. Началось непрерывное вращение, точно какой-то механизм вдруг чудом пришёл в движение. Сначала громоздкая и неуклюжая, исполненная риторизма и подражательности делала русская литература свои первые шаги. Но эти шаги крепчали со временем, и поступь её становилась изящнее.
Русский классицизм в лице Кантемира, Тредиаковского, Сумарокова стал каким-то невнятным и сумбурным предисловием к русской литературе. В то время как Ломоносов явился первой её страницей. Напористость Ломоносовского стиля, устремлённость его поэзии горе, метафоры и тропы, необычные и даже дерзкие для своего времени сравнения – всё это образовало своеобычие Ломоносова, поправшего классицистический «принцип авторитета» и требование к пиитам строго соблюдать предписания теоретиков.