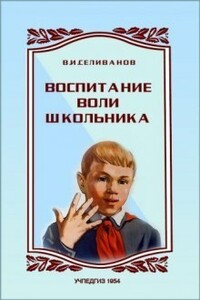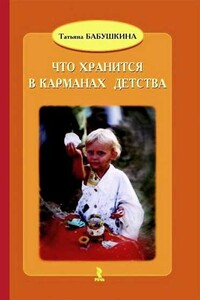Сознание дошкольника | страница 2
Поэтому, по выражению Л.С.Выготского, сознание человека «внутренне социально», способно относиться к себе как к «другому», т. е. выходить за свои пределы и обращаться к себе как бы «со стороны»: сознание, таким образом, есть по существу и самосознание. И не в некой последовательности — сначала сознание чего либо, а затем осознание самого себя, в одновременности. Каждый раз обращенность сознания на свой предмет позволяет взглянуть с позиции этого предмета на самое себя и осознать себя.
С этой точки зрения проанализируем некоторые ситуации, описанные в психолого-педагогической литературе и имеющие прямое отношение к пониманию детского сознания. Для примера возьмем сборник под редакцией М.И.Лисиной «Исследования по проблемам возрастной и педагогической психологии» М.,1980.
Основное внимание исследования направлено на развитие «образа самого себя». Подчеркивается недостаточность когнитивистского понимания образа самого себя; образ этот представляет собой «когнитивно-аффективное единство». Когнитивный компонент этого образа — представление о себе — интерпретируется как знание, как отражение ребенком сведений, относящихся к нему самому. Образ самого себя как единство когнитивного и аффективного компонентов складывается преимущественно в ходе общения, познания свойств своих и другого человека, причем потребность в общении выводится именно из потребности в этом образе.
«Потребность, побуждающую к деятельности, — пишет М.И.Лисина, — следует идентифицировать на основе конечного результата, с достижением которого деятельность завершается и прекращается. Таким конечным пунктом коммуникативной деятельности объективно является построение аффективно-когнитивного образа другого человека, партнера по общению, и самого себя. Отсюда следует, что и основное побуждение к коммуникации рождается из стремления ребенка к самопознанию и самооценке через партнера по общению и с его помощью11». Нам кажется, что у общения не может быть «конечного пункта», общение-диалог не может «завершаться и прекращаться». Кроме того, общение ребенка, видимо, не мотивируется только стремлением к самопознанию и самооценке. По этой логике, если предположить наличие у ребенка адекватного образа самого себя и адекватной самооценки (а это то, к чему, согласно авторам, стремится ребенок), то у него не будет потребности общаться ни с другими, ни с собой. Здесь дело, по-видимому, не в том, что образ самого себя становится все более адекватным, приближаясь к «объективной реальности», а в том, что сама эта реальность только и существует в общении с собой. Упрощенное, на наш взгляд, понимание образа самого себя как раз и приводит к исследованию его когнитивного компонента — представления о себе — методом оперантных реакций2, который сам по себе не дает никаких оснований предполагать наличие образа и противоречит тезису о специфике человеческого отношения к себе по сравнению с животными, который авторы выдвигают чуть выше3.