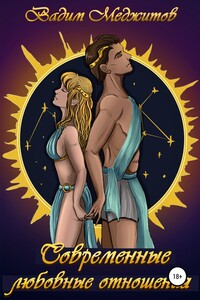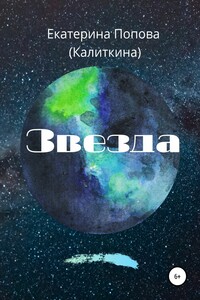Окаянный император. Роковое путешествие | страница 49
— Двадцать один метр в длину, двадцать в ширину, толщина днища тринадцать сантиметров, бортов — девять, а вот высота… Четверть — это сколько? — не запнувшись, перевел я мысленно сажени и вершки в привычные величины. — Надо пометить в записной книжке, как можно скорее перейти на метрическую систему.
— Понтоны законопачены старыми смоляными канатами, — продолжил между тем Рассушин. — Подводная часть сделана из лиственницы. Между собой они соединены брусьями. Для пропуска судов их рубят, половинки раздвигает течение и проход освобождается.
— И сколько сие сооружение прослужит?
— По нашим подсчетам, не менее десяти лет, ваше императорское высочество. Лиственница, как известно, гниению не подвержена, поэтому можно не опасаться за сохранность.
— Дай бог, дай бог!
На подносе поднесли большие ножницы. Щелкнув, я перерезал ленту. Это стало сигналом для оркестра и хора. Они затянули «Боже царя храни». Гимн оказался слишком тягучим, с бесконечным повторением одних и тех же слов. До советского, а потом и российского он явно недотягивал. Кстати, надо будет дать ЦУ поэтам и композиторам. Пусть потворят на благо Отечества. Не знаю, как батюшку, а меня существующий вариант не устраивает. Я поймал себя на мысли, что впервые подумал об императоре Александре III как об отце. Медленно, но наша экспедиция движется к конечной точке, а там мне предстоит свидание с «родителями». Уж они-то отпрыска знают как облупленного. Какой будет эта встреча? Признают ли они сына? Вопросы, вопросы… Ладно, повлиять на это я не могу, не будем тратить нервы попусту.
Завершился визит в Иркутск вполне ожидаемо — военным смотром и званым обедом. Где пришлось поднять уже привычный тост: «За процветание дорогого…!» От города к городу менялось только название.
За бортом «Сперанского» вновь заплескалась речная волна. На берегах замелькали деревни и села, посещение которых превратилось в бесконечный День сурка. Караваи, молебны, триумфальные арки, восторженные жители. В итоге мне это надоело. Оставив свиту разбираться с подношениями и любоваться джигитовкой (правда, Барятинский опять не преминул поворчать, мол, опять предписания нарушаем), я переоделся в казачью форму и в сопровождении пары конвойных поехал в соседний поселок.
Дорога через тайгу заняла немного времени, и вскоре мы въехали в деревню. Залари походила на декорацию к историческому фильму. На улицах не было ни души. Не бегали даже вездесущие куры. Зато собаки, запертые по дворам, заливались от души. Похоже, все от мала до велика отправились смотреть на царевича.