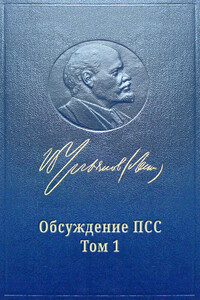В поисках роста: Приключения и злоключения экономистов в тропиках | страница 39
Итак, не стоит напряженно высчитывать, сколько инвестиций «требуется» для поддержания данного темпа роста. Вместо этого нам следует сконцентрироваться на усилении стимулов для инвестирования в будущее и дать возможность разным формам инвестиций работать в полную силу. (О том, как это сделать, я упомяну в конце главы и еще вернусь к данной теме в других главах.)
Я могу составить сценарий того, как изменится доход страны в случае, если прогнозы, основанные на дефиците финансирования, верны, и сравнить результат с реальным положением дел. Модель дефицита финансирования предполагает, что объем инвестиций равен объему предоставляемой помощи или даже превышает его. Я буду исходить из консервативного соотношения один к одному. Итак, соотношение инвестиций и ВВП должно увеличиваться в течение исходного года на столько же, на сколько увеличивалось в течение этого года соотношение помощи и ВВП. Затем эти инвестиции будут влиять на увеличение темпов роста в последующий период. Рассуждая подобным образом, можно предсказывать общий рост ВВП. Чтобы получить рост на душу населения, я учитываю фактический рост численности населения.
Я начну со сравнения фактического среднего дохода жителей Замбии с тем, каким он должен был бы быть после предоставления двух миллиардов долларов в виде помощи, если бы покрытие дефицита финансирования влекло изменения, соответствующие прогнозам (рис. 2.1). Сегодня Замбия была бы промышленно развитой страной с доходом в 20 000 долларов на душу населения, а не находилась бы в положении, в котором она в действительности находится, — одной из беднейших стран мира с подушевым доходом в 600 долларов (что на треть ниже, чем в момент обретения независимости). Замбия — один из худших примеров для модели дефицита финансирования, потому что еще до предоставления помощи уровень инвестиций в стране был высок, а объем самой помощи — огромен. Но уровень инвестиций в Замбии по мере увеличения объемов помощи не рос, а падал, и инвестиции все равно не привели к росту [52].
Рис. 2.1.Расхождение между фактическим подушевым доходом и прогнозным доходом по модели дефицита финансирования в Замбии.
А как обстоят дела с прогнозом роста для остальных реципиентов помощи, основанной на модели дефицита финансирования? Во-первых, фактические темпы роста в разных странах чаще всего были ниже прогнозируемых. Во-вторых, модель дефицита финансирования не помогла определить «суперзвезд» роста. Самые заметные примеры — это предполагаемые лидеры: Гвинея-Бисау, Ямайка, Замбия, Гайана, Коморские острова, Чад, Мавритания, Мозамбик и Зимбабве. В реальности именно в этих странах рост был, наоборот, катастрофически низким, несмотря на высокий уровень первоначальных инвестиций и на большие объемы предоставленной помощи. Появление настоящих «суперзвезд» — таких, как Сингапур, Гонконг, Таиланд, Малайзия и Индонезия (по крайней мере до последнего времени они были таковыми), — с помощью модели дефицита финансирования предугадать не удалось. Либо уровень первоначальных инвестиций в этих странах был низок, либо объем помощи невелик (порой сочеталось и то, и другое). При этом экономика этих стран росла высокими темпами. Как видим, между прогнозируемым и фактическим ростом нет практически никакой связи.