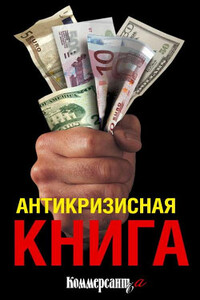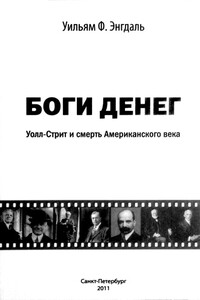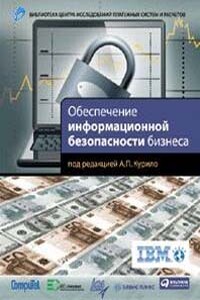В поисках роста: Приключения и злоключения экономистов в тропиках | страница 34
Когда мы определяли потребность в помощи как разность между «требуемыми» инвестициями и текущими сбережениями, мы предполагали, что помощь в полном объеме пойдет на инвестиции. Более того, доноры говорили об условиях, которые заставят страны одновременно увеличивать свою норму национальных сбережений, — некоторые, например Ростоу, даже считали, что это произойдет само собой. Следовательно, помощь в сочетании с требованиями, предъявляемыми к национальным сбережениям, должна привести к увеличению инвестиций в пропорции даже большей, чем один к одному. Давайте посмотрим, что же происходило на самом деле.
У нас есть данные по восьмидесяти восьми странам за период с 1965-го по 1995 г. [46]. Для того чтобы можно было серьезно говорить о взаимосвязи объемов помощи и инвестиций, эта зависимость должна отвечать как минимум двум критериям. Во-первых, должна существовать положительная статистически значимая связь между предоставлением помощи и объемом инвестиций. Во-вторых, помощь должна переходить в инвестиции как минимум в соотношении один к одному: то есть каждый дополнительный процент ВВП в виде предоставленной помощи должен приводить к росту объема инвестиций также на 1 % ВВП. (Ростоу, как мы помним, предсказывал, что инвестиции вырастут еще сильнее в результате увеличения сбережений реципиента.) Отвечает ли взаимосвязь помощи и инвестиций этим критериям? Что касается первого критерия, положительную статистическую связь между помощью и инвестициями удалось обнаружить только по семнадцати странам из восьмидесяти восьми.
Из этих семнадцати стран только шесть отвечают второму критерию — в них увеличение инвестиций как минимум соответствовало объему предоставленной помощи. Среди этих шести магических стран две получали незначительные объемы помощи: Гонконг (в среднем 0,07 % ВВП в 1965-1995 гг.) и Китай (в среднем 0,2 % ВВП). Остальные четыре страны — Тунис, Марокко, Мальта и Шри Ланка — действительно получали значительные объемы помощи. Восемьдесят две страны представленным критериям не отвечают.
Эти данные по отдельным странам напоминают результаты исследования 1994 г., которое не выявило никакой связи между помощью и инвестициями по разным странам. В отличие от того исследования, я не намереваюсь делать общие заявления о неэффективности международной помощи. Оценки подобного рода всегда сложны, в особенности из-за возможности влияния некоего третьего фактора как на помощь, так и на инвестиции. Не исключено, что в какой-либо из этих стран произошло бедствие вроде засухи, отчего инвестиции упали, а помощь увеличилась. Я лишь задаюсь вопросом, действительно ли помощь и инвестиции идут рука об руку, как предполагали те, кто пользовался моделью дефицита финансирования. Защитники этой модели ожидали, что помощь будет направляться на инвестиции, а не на помощь стране в засушливый год. По моим расчетам, эволюция инвестиций и помощи происходила не так, как мы ожидали.