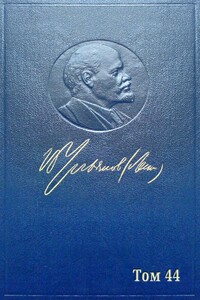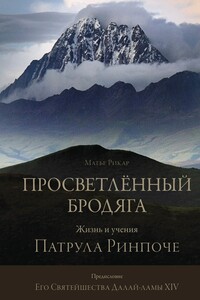Повесть о военных годах | страница 31
Дорогой московский профессор! Ваш сын не стал научным работником… Он мечтал о подвигах, и он совершил подвиг, о котором мечтал, — единственный подвиг в своей жизни!
Колонна снова остановилась: противник оседлал дорогу. Пехота вступила с ним в бой. Все орудия выдвинулись ближе к пехоте, а обоз стал сворачивать с дороги в молодую березовую рощу.
Больше я не видела комиссара Хромченко, но навсегда осталась память о нем, о силе, которую черпали у него бойцы и командиры.
Через много лет я с болью читала в «Повести о настоящем человеке» о смерти настоящего человека, комиссара Воробьева, и в мыслях моих вставал образ комиссара Хромченко.
У меня образовалась уже своя «колонна» из трех машин, заполненных до предела. При этом надо было не только оказывать первую помощь раненым, но и кормить, поить их. Один из шоферов побежал на поиски и вскоре принес в каске немного мутной дождевой воды, зачерпнутой в окопе.
У обочины я увидела командира, раздававшего бойцам своей части сухари. До сих пор о еде не думалось, но сейчас судорога голода сдавила горло, и я подбежала к командиру:
— У меня раненые, они голодны, дайте мне для них сухарей!
— Сколько их у тебя?
Мысленно подсчитала:
— Восемнадцать!
Командир молча отсчитал девять сухарей:
— Бери. По полсухаря на человека, больше не могу.
Я не шла, а летела к машинам: «Вот уж обрадуются бойцы!» Раненые, получив сухари, с наслаждением грызли их, размачивая в принесенной воде.
— А ты что ж, сестричка, не ешь? — спросил меня один из солдат.
— Я уже ела… по дороге… не удержалась. — Не могла же я сказать им, что мне выдали сухари только на раненых.
Отойдя в сторону, легла на траву и с облегчением вытянула ноги. Надо мной было глубокое голубое небо, такое мирное, ласковое; в нем кое-где медленно плыли белые барашки облаков. Люблю смотреть в такое небо. Кажется, что плывешь вместе с облаками к далекой и светлой мечте. На несколько мгновений забыла о войне, об усталости, голоде. Лежать бы так и лежать… Из забытья вывело далекое жужжание моторов: в голубизну неба ворвалось несколько «юнкерсов». Зататакали пулеметы, ударили орудия, небо засветилось вспышками разрывов. «Юнкерсы» сделали разворот и один за другим стали пикировать в лощину. Они проносились над нами на бреющем полете так низко, что бойцы открыли ружейную стрельбу. Стреляли и мои раненые. Хотелось стрелять, бить, кричать, но только не оставаться безучастным свидетелем того, как эти ревущие, завывающие стервятники несут огонь и смерть сюда, в лощину. Бросилась снимать с машин тяжелораненых: пусть лучше лежат на земле, в канавках — все же укрытие. Снова начали пикировать «юнкерсы», и я прижалась к земле. Один тяжелораненый позвал меня. Он был удивительно спокоен; глаза, незадолго перед тем мутные, стали глубокими и ясными, как небо, отражавшееся в них.