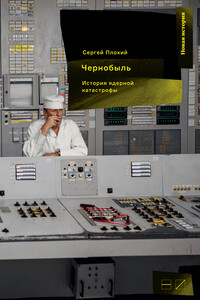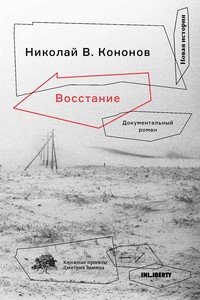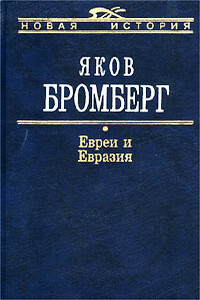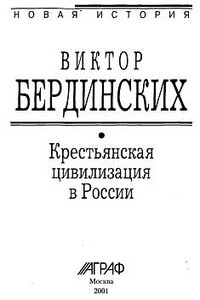Мы здесь живем | страница 18
За пределами его жизни — возвращение в середине 1990-х рукописей, изъятых у него на многочисленных обысках и хранившихся в его последнем следственном деле.
Муза Истории любит сближения, совпадения, рифмы.
Анатолий Тихонович Марченко, человек, который первым рассказал миру о политических лагерях послесталинской эпохи, человек, который своей отчаянной и героической акцией, возможно, приблизил начало массового освобождения заключенных из этих лагерей, стал в то же время замыкающим в многомиллионной шеренге жертв «58-й статьи» (историческое название раздела Уголовного кодекса, где перечислены политические преступления), последним советским политзаключенным, погибшим в неволе.
Но дело не только в совпадениях и рифмах, которыми забавляется история. Дело прежде всего в самом Анатолии Марченко, в его личности. Он не умел и не желал смиряться с ложью. Он не захотел стать конформистом, не пожелал «жить как все», он сознательно противопоставил себя системе. Он сам выбрал для себя участь политзаключенного, судьбу «вечного зека». Даже на фоне других политзаключенных Марченко выделялся твердостью характера, нежеланием идти ни на какие, даже самые ничтожные компромиссы со злом. Он боролся с ложью, несправедливостью и в лагерях и на воле.
Опыт индивидуального сопротивления лжи и несправедливости необычайно важен в современной России. Для тех, кто сегодня пытается не допустить «повторения пройденного», память о Марченко, его выборе, его трагической гибели и конечной победе — это живая память.
Было бы, однако, неправильно сводить личность Анатолия Марченко к какому-то определенному типажу, подменять реального человека образом «идеального политзаключенного» или «идеального борца». «Быть борцом», «быть политическим заключенным» для него не являлось ни профессией, ни хобби, а было вынужденной необходимостью, неприятным побочным следствием его писательского труда. Марченко — литератор; и не просто литератор, а выходец из рабочей среды, из социальных слоев, бесконечно далеких от писательства. Превратившись в интеллигента, точнее — превратив себя в интеллигента, он не забывает свои рабочие корни и не стыдится, а впрочем, и не фетишизирует их. Он не отказывается от своего исходного социального опыта. Но он ценит и мир русской интеллигенции, новый для себя мир, обретенный им лишь к тридцати годам ценой огромных усилий. Не то чтобы он чувствует себя в этом мире своим — полностью своим он не чувствует себя нигде. Но он говорит о советской интеллигенции и с советской интеллигенцией как равный с равными. Он хочет ввести — и вводит — в современную ему культуру свое мироощущение рабочего парня из Барабинска, он чувствует себя представителем той России, о которой, несмотря на широковещательные декларации, мало и редко писали в советской литературе и совсем редко писали правду.