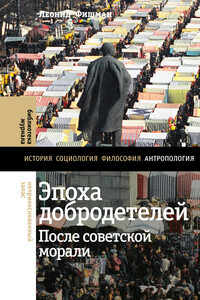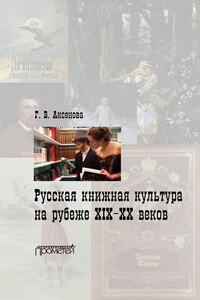Почему нельзя научить искусству. Пособие для студентов художественных вузов | страница 59
Здесь есть и еще один, довольно тонкий, момент. Искусство никогда не было прямым отражением общества. В Китае при жизни Дун Цичана, одного из известнейших китайских художников-новаторов, политическая жизнь была относительно спокойной, с другой стороны, смена династии Мин династией Цин, одно из самых бурных событий в китайской истории, почти не оставило следов в живописи. Искусствовед Эрнст Гомбрих заметил, что на Западе «и маньеризму, и барокко приписывали то, что они выражают дух Контрреформации, однако эти утверждения нелегко подкрепить доказательствами»>38. Похоже, настоящее искусство редко отражает текущую политическую ситуацию, и от этого еще труднее понять, как готовить художников к созданию интересных политически ангажированных произведений>39.
Является ли современное искусство отражением общества? Да, во всех смыслах. Но также имеется группа художников, которые учились в относительной изоляции от представителей других профессий. Естественно, в их искусстве ощущается недостаток научных, юридических, медицинских и других знаний – так, может, не стоит говорить о том, что оно – отражение мыслей и чувств всех людей вообще и общества в целом?
Как обучить (и научиться) посредственному искусству
Из тысячи студентов-художников, наверное, только пятеро смогут зарабатывать на жизнь своим творчеством и, может быть, одному из них так повезет, что он прославится за пределами своего города. Это не приговор. Такова природа славы, сочетание таланта и пробивных способностей – редкость. Вдобавок слава выбирает человека наугад. Множество интересных художников прозябают в безвестности, потому что не показали свои работы на выставке в нужный момент, не представили их нужным людям. Негативная рецензия или плохая погода во время вернисажа – этого бывает достаточно, чтобы загубить карьеру на корню. Не существует единого мнения о том, что считать великим, важным или заслуживающим внимания, и во второй половине XX века авангард стал расплывчатым понятием.
И все же, помимо проблем удачи и истории, есть еще одна: на самом деле подавляющее большинство художников не производят интересное искусство. А следовательно, большая часть студентов не создают искусство, подобное тому, которое они изучают и которым восхищаются. Некоторые возразят, что ориентируются в своем творчестве на «лучшие» образцы и что в художественных вузах всегда полно людей, которые просто копируют то, что было создано другими и пользовалось заслуженной славой. Показ дипломных работ в художественных вузах дает ощущение потрясающего разнообразия, как будто каждый студент – первооткрыватель нового искусства, какого еще не видел мир. Когда смотришь на эти работы, создается впечатление, что все они отличные и, если бы не превратности рынка, почти наверняка обречены на успех. Но стоит посмотреть на дипломные работы предыдущих выпусков – и восторгов поубавится. В каталогах художественных вузов начала XX века – репродукции студенческих работ, выглядящих как рабские подражания Джону Сингеру Сардженту или Анри Тулуз-Лотреку, а в каталогах дипломных работ 1950-х вы найдете сотни подражаний абстрактному импрессионизму. Глядя на каталоги выпусков прошлых лет, я понял одно: при всем разнообразии все эти произведения полвека спустя кажутся однотипными. Работы, которые казались новыми или многообещающими, с течением времени начинают восприниматься такими, какие они есть на самом деле: как довольно посредственные, слабые попытки подражания модному на данный момент стилю. Это удручает, конечно, но этому учит нас история. (Если вы сомневаетесь, зайдите в какую-нибудь крупную библиотеку, где хранятся каталоги таких учебных заведений, как, например, лондонская Королевская академия. Когда смотришь на самые ранние каталоги студенческих работ, создается впечатление, будто они все выполнены одним человеком, а в самых последних, новых, каждое произведение кажется новаторским. Время стирает различия.)