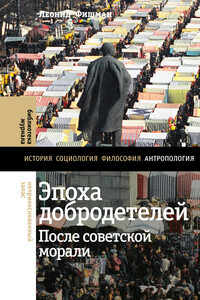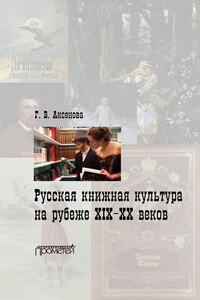Почему нельзя научить искусству. Пособие для студентов художественных вузов | страница 58
Я не буду далее распространяться на эту тему. О способности к обучению и типах обучения написаны целые тома, как и о характерах художников, от древнегреческих и далее. И вся эта литература лишь подкрепляет гипотезу о том, что художники творят только для небольшой части общества. Но, на мой взгляд, не стоит относиться к этому слишком серьезно. Мы все еще верим, что изобразительное искусство универсально – в отличие, скажем, от налогового учета или свиноводства. Все еще считается, что искусство выражает общечеловеческие интересы. И до сих пор мы верим, что художественные вузы готовят людей к чему-то такому, что может быть интересно всем, тогда как технические готовят узких специалистов. Мастеру, ремонтирующему осциллограф, искусство в той или иной степени нужно, а вот художникам совсем не обязательно знать, как чинить осциллографы. Но что если это мнение ошибочно? В таком случае студентов-художников готовят к жизни в интеллектуальных гетто.
Связь между студентами-художниками и обществом также нарушается, когда студенты увлекаются политическим искусством. Результат часто бывает скандальный, поэтому, по мнению преподавателей, нужно объяснять студентам, что политическое искусство должно быть социально ответственным, доходчивым, интересным. Политически мотивированное искусство, как у Андреса Серрано, Комара и Меламида или Ханса Хааке, может показаться отталкивающим или чересчур резким. Поэтому время от времени раздаются призывы к очередной интеграции художника в общество, а художников критикуют за неумение отразить в своем творчестве политические проблемы иначе как в полемической форме>37. При этом предполагается, что вся проблема – в образовании: художники должны быть знакомы с историей политического искусства, разбираться в политике и экономике. Но, возможно, ситуация еще более удручающая. Может быть, уход искусства в башню из слоновой кости – естественный, имеющий глубокие корни феномен, и дополнительным образованием для художников дела не исправить. Я уже говорил в первой главе о том, что отделение художников от остального общества началось в эпоху романтизма, и за последующие две с лишним сотни лет эта тенденция только усиливалась. Исторически так сложилось, что у художников и общества, в котором они живут, мало точек соприкосновения, и педагогические инициативы вряд ли что-либо существенно исправят. С исторической точки зрения, эти две позиции – художники, создающие не связанные с жизнью произведения, и просветители, жалующиеся на изоляцию художников, – известны уже давно. Так, может, вместо того чтобы пытаться искоренить этот феномен, стоит изучить его и понять?