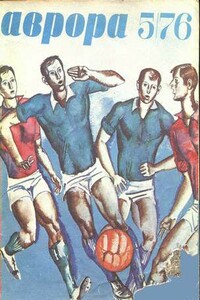Записки ровесника | страница 42
Долго колебались чаши весов. Няня давно спала и, как обычно, тихонечко похрапывала во сне, когда я окончательно решил, что обвинять в предательстве некого, что так оно и быть должно. Не могла же няня давать сдачи всем, кому охота задеть меня… Я вылез из кровати, подошел к ней, поправил одеяло — так же как она это делала каждый вечер, — поцеловал няню в висок, под самые волосы, куда всегда любил целовать, лег и тоже спокойно заснул.
Желающих задеть меня было — хоть отбавляй. Заманчиво же: самый маленький, щуплый, тихоня, среди шпаны дружков — никого, с виду на «гогочку» смахивает: в школу я ходил в бумазейных или суконных блузах на резинке, мама считала их самым подходящим для мальчика моего возраста видом одежды и шила мне блузы собственноручно, одну за другой.
Словом, первое время я все уступал и уступал. Не знал, как иначе. Терпел всякие гадости. Сносил превосходство разных подручных, подхалимов и подпевал, которыми, в свою очередь, помыкали асы — тем-то меня и видно не было.
Потом сразу произошли два события. Я заручился покровительством, хоть и не искал его, и, перестав приглядываться и прилаживаться, дал наконец первый раз сдачи.
Как ни странно, покровитель у меня появился в результате того, что я на редкость хорошо знал весьма распространенный в те годы немецкий язык.
Моя умница-мама, едва только мы перебрались в Ленинград, отдала меня в немецкую группу. Шестеро-семеро дошкольников проводили целые дни с воспитательницей-немкой — гуляли, играли, занимались и даже обедали все вместе у одного из учеников, на квартире родителей которого шли занятия. Обходилось это не так уж и дорого; мама считала этот расход первоочередным. Забегая вперед, замечу, что занятия наши — не каждый день и не так основательно, конечно, — продолжались до окончания нами школы.
Немку звали Евгения Павловна. Сокращенно — Евгеша. Я многим ей обязан, столь многим, что няня, случалось, втихомолку ревновала меня к моей первой учительнице.
Евгения Павловна помогла нам исподволь, безо всякой зубрежки — зубрили мы только спряжения глаголов, но их, как известно, иначе выучить невозможно, — понять, нет, не понять: осознать, ощутить, как безбрежна человеческая культура, как широко можно, и следует, смотреть на вещи, как гуманны основы нашей цивилизации. Мало кому подобное ощущение доступно в семь лет, а жаль, ибо чем раньше оно возникнет, чем раньше «войдет в кровь», тем надежнее послужит впоследствии противоядием против разного рода разочарований, тем вернее скрасит горький опыт, тем лучшим поводырем окажется при поисках своего пути. И самый первый родничок моего будущего интереса, и пристрастия, и любви к истории был, конечно же, не где-нибудь, а именно здесь.