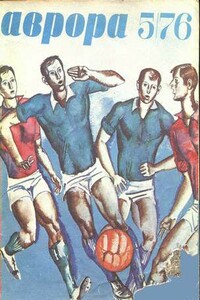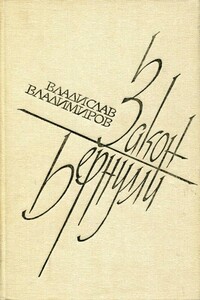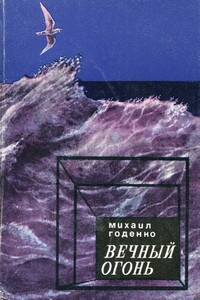Записки ровесника | страница 128
Вот только на ужин мне разогрели блюдо, есть которое я не мог, — похлебку из бычьих кишок, как оказалось.
Странная все-таки судьба у этого города, размышлял я, пытаясь втиснуть в себя хоть немного клейкого варева, чтобы доставить удовольствие няне. С одной стороны, безграничное уважение к его жителям в любом уголке страны, уважение спонтанное, никем не декретируемое, — слово «ленинградец» без промаха распахивает сердца и двери, — с другой, такие невыносимые страдания. Второй раз за какие-нибудь двадцать лет потерять облик нормального города, освещаться коптилками, отапливаться буржуйками, снабжаться совершенно невозможными крохами — какое еще человеческое поселение способно выдержать подобные испытания? А ведь перед войной забылось уже как будто, что Петроград голодал и холодал почти так же страшно, в сущности, как сейчас, — год, другой, третий… Разница есть, конечно; в том, в частности, что тогда из города можно было уехать, а теперь — как я еще сам назад выберусь…
Нет, мои-то, мои-то… Чисто, уютно, сравнительно тепло, а я таких ужасов наслушался… Вот чего стоят мамины принципы, введенные в действие на полную силу… на полную катушку… Раньше всё цветочки были, ягодки — вот они…
Старушки мои сидели рядом и терпеливо ждали, пока я закончу обряд еды, ставший для ленинградцев таким существенным; няня все порывалась положить мне еще. Все расспросы были отложены на потом, что было уже совершенно на маму не похоже.
В город я въехал поздно ночью. Шофер грузовика, за буханку хлеба примчавший нас с берега Ладоги, высадил меня на углу улицы Белинского и Литейного проспекта. Увешанный чемоданами, свертками, тючками — там лежали продукты, мыло и табак, собранные на дорогу моими фронтовыми товарищами, а также посылки, которые мне надлежало вручить, — я шагал по знакомой улице, мимо знакомых окон; окна я знал «поименно», за ними в мирное время жили мои школьные друзья, и я мысленно приветствовал каждого из них. Кивнул петровской, западного образца церквушке на углу Моховой, и ее сухощавая подслеповатая колоколенка подмигнула мне в ответ здоровым глазом.
А вот наш дом встретил меня сурово, недоверчиво, словно не знал, стою ли я того, чтобы он оказал мне честь вновь впустить меня в свою утробу. Проезжая всегда теперь мимо домов, где я жил когда-то, я приветствую их издали — из машины, трамвая, автобуса. «Привет!» — бормочу тихонько, и в ответ, кажется мне, тоже доносится: «Привет!..» Только наш блокадный домина кажется мне почему-то старшим в роде, ему я не смею послать фамильярное «привет!», ему я говорю почтительно «здравствуй», а он молча, хмуро кивает — и то не всегда. Во время капитального ремонта его перекроили, беднягу; зайдя во двор, чтобы взглянуть на окна нашей бывшей квартиры, я обнаружил на их месте чистое небо, даже стен не осталось. Похоже, с тех пор дом относится ко мне еще суровее…