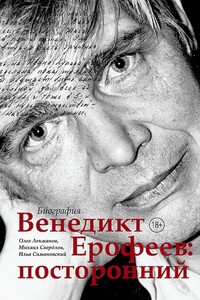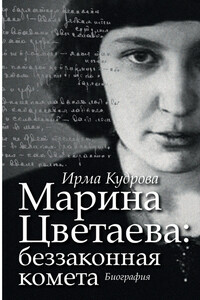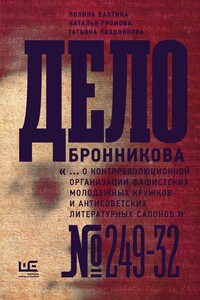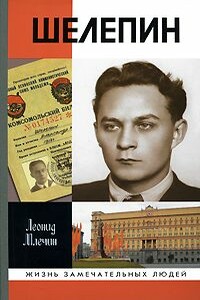Джордж Оруэлл. Неприступная душа | страница 25
Вопрос из будущего: Зачем, зачем вы трясли этими «мокрыми простынями» на весь свет? Детский энурез – это же обычное явление? Зачем вы пишете, что в этой школе начали мастурбировать? Что однажды даже донесли на своих товарищей? Или самоуничижение, как говорят у нас, – паче гордости?
Ответ из прошлого: Автобиографии можно верить, только если в ней раскрывается нечто постыдное.
В.: Но есть правда – и правда? Подобное самораздевание, я замечал, вообще характерно для западных автобиографий. И не вы ли в одной из статей довольно язвительно разоблачаете некий публичный эксгибиционизм одного всемирно известного художника?
О.: Но пи́саться-то я перестал… Я вообще сомневаюсь, что успехов в классическом образовании можно достичь без плетки. А пишущему о своем детстве следует остерегаться как преувеличений, так и жалости к себе…
В.: А жалости к родным, к родителям? Это ведь они «затолкали» вас именно в этот пансион? Что, не было других?
О.: Страшная штука этот «образовательный» психоз!.. Нет, вероятно, большей жестокости к ребенку, чем отправить его в среду деток значительно богаче. Никакому взрослому снобу не приснятся муки такого малыша. Послать сына в приличную (то есть какую-никакую, но закрытую частную) школу, ради чего немало лет влачить существование, которым побрезговала бы и семья слесаря… Но именно так я и попал в стены Киприана… Не утверждаю, что я был страдальцем… но я солгал бы, не сказав об отвращении… к этой школе…
Отвращение внушало всё, кроме морского ветерка, остужавшего его горящие щеки, – школа располагалась почти на берегу Ла-Манша. Через много-много лет он запишет: «Стóит, закрыв глаза, шепнуть себе: “Школа”, и сразу передо мной – плешь игрового поля с павильоном для крикета, сарайчик на стрельбище, продуваемые сквозняками дортуары, пыльные облупившиеся коридоры… и молельня из грубых, занозистых сосновых досок… И почти отовсюду лезет какая-нибудь гадкая деталь. Например, кашу мы ели из оловянных мисок, под загнутыми краями которых всегда скапливалась и ленточками шелушилась засохшая овсянка. Сама каша содержала столько комков, волос и загадочных черных крупинок, словно эти ингредиенты входили в кулинарный рецепт… Помню себя, – пишет, – крадущимся часа в два ночи через неизмеримые пространства темных лестниц и коридоров – босиком, обмирая от тройного ужаса перед Самбо, грабителями и привидениями, – чтобы украсть из кладовой кусок черствого хлеба». Или – убирая посуду после воскресных ужинов Флип и Самбо – подъедающим остатки с их тарелок… А гнусноватая вода в бассейне – в нем по утрам плескалась вся школа… А вечно влажные полотенца, пованивающие сыром… А не вычищенные от сальной грязи ванны… Нелегко мне вспомнить школьные годы без того, чтобы вмиг не шибануло чем-то противным и зловонным – смесью потных чулок, веющего по коридорам запаха фекалий, вилок с… навек застрявшими между зубцов остатками жилистого бараньего рагу…»