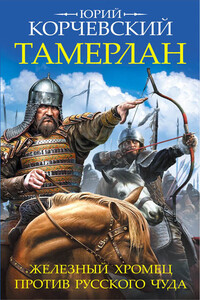Морские нищие | страница 141
Но нельзя судить обо всем народе только по обленившимся дворянам и придворным. Он ведь слышал что-то о прошлых волнениях среди этих же кастильских крестьян.
Генрих шел, опустив голову. Навстречу ему так же быстро шел смуглый человек в поношенной куртке ремесленника. Они нечаянно столкнулись, и оба извинились с испанской вежливостью.
— Родриго?.. — Не веря глазам, Генрих остановился. — Рустам? Неужели Рустам?..
Человек оглянулся:
— Генрих!..
— Значит, ты в Бургосе?.. — Ван Гааль засыпал гончара вопросами: — А твой дядя? А Гюлизар? Я думал, вы направились на юг. Что вы тут делаете?..
Брови Рустама сдвинулись, и он коротко ответил:
— Я здесь один.
— А где же твои?
— Умерли… — едва расслышал Генрих.
— Оба? — Ван Гааль схватил его за руку. — Оба? И Гюлизар? Лучшая роза из цветника твоего дяди? Что случилось? Отчего?
Рустам молчал, стиснув зубы. Генрих заглянул ему в глаза и прошептал в ужасе:
— Инквизиция?..
Мавр кивнул головой. Оглянувшись на прохожих, ван Гааль отвел его к соседнему пустырю и заставил сесть рядом с собою на груду обломков какого-то здания.
— Их арестовали? Казнили? Расскажи… Ведь я так любил их обоих… Как это случилось?
Похудевшее лицо Рустама было измученно.
— Тебе, — сказал он глухо, — я расскажу. Тебе одному из всех гяуров. Ты — человек. Один ты… А твои братья мушрикины[33] хуже диких зверей. — Он перевел дыхание. — Слушай же. Мы бежали из Алькалы не все вместе. Дядя с Гюлизар — в Сарагоссу. Я — в родную Валенсию. Так было лучше — не так опасно… По пути Гюлизар заболела. Страх, тяжелая дорога пешком, голод и, наконец, ветер с гор Сьерры-Гвадарамы. Она стала, говорят, похожа не на розу, а на тростинку, на тоненькую тростинку. А как она, рассказывают, пела, пока еще могла петь! Как соловей… Нет, лучше соловья! У соловья нет слов, а у нее были нежные слова, слова великой жалобы…
Он остановился. Спазма сжала ему горло. Справившись с собой, он продолжал:
— В Сарагоссе жил наш родственник. Он приютил их на время, а потом дал денег и отправил ко мне в Валенсию. Там солнце и морской воздух вернули бы сестре здоровье… Но мне не пришлось увидеть их обоих. В одной придорожной венте, в бреду, Гюлизар стала петь про «Сады Пророка» — песню тоски по свободе. Хозяин венты думал, что у дяди много денег, и захотел поживиться. Он выдал их монахам… Те схватили обоих и бросили в тюрьму.
Голос Рустама снова оборвался. Генрих слушал, закрыв лицо руками.
— Их бросили в тюрьму, — повторил хрипло Рустам, — и стали пытать. Дядя держался долго — не хотел губить дочь. Но, когда узнал, что Гюлизар от первой же пытки умерла, начал громко проклинать палачей и признался, что всегда исповедовал ислам, а христианство ненавидел… И его сожгли вместе с мертвым телом Гюлизар. Проклятые, они сожгли старика, который за всю жизнь не сделал ни одного злого дела! Они сожгли тело замученной Гюлизар. Они сожгли и мое сердце, — добавил он почти спокойно. — И теперь на месте сердца у меня огонь их костра…