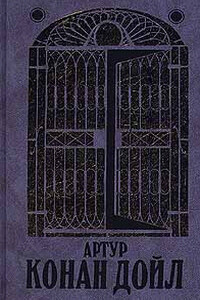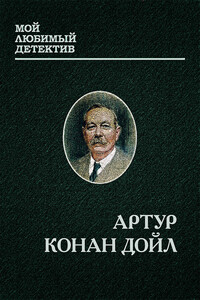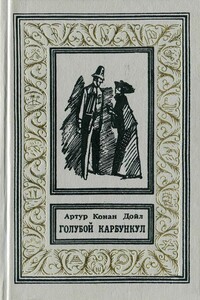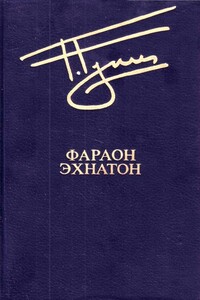Тень великого человека | страница 31
— Очень хорошо, мистер, — сказал он, — комната за вами, и вы всегда будете платить каждый месяц третьего числа.
— Ах, вот и мой приятель, с которым я познакомился раньше вас! — воскликнул де Лапп и протянул мне руку с улыбкой, хотя и ласковой, но в ней чувствовалось что-то покровительственное; такая улыбка бывает у человека, когда он обращается к своей собаке. — Теперь я совсем оправился, благодаря тому, что прекрасно поужинал и хорошо спал ночью. Ах, голод отнимает у человека мужество, — главным образом, голод, а затем холод.
— Да, это правда, — сказал мой отец. — Во время метели я пробыл в степи тридцать шесть часов и знаю, что это значит.
— Я видел однажды, как три тысячи человек умерли от голода, — заметил де Лапп, протягивая руки к огню. — Они худели день ото дня и становились все более и более похожими на обезьян; они подошли к краям понтонов, на которых мы их держали, и подняли вой от ярости и от боли. Первые дни их вой слышен был по всему городу, но через неделю наши часовые, стоявшие на берегу, уже не могли слышать их, потому что они ослабели.
— И они умерли! — воскликнул я.
— Они выдерживали очень долго. Это были австрийские гренадеры из корпуса Старовица, видные собою, крепкие люди, такого же роста, как ваш приятель, которого я видел вчера; но когда город был взят, их осталось в живых только четыреста человек, и один человек мог поднять их троих за раз, как будто бы это были маленькие обезьянки. На них жалко было смотреть. Ах, друг мой, познакомьте меня с madame и mademoiselle.
В это время в кухню вошли моя мать и Эди. Он не видел их накануне вечером, но когда я посмотрел на него теперь, то едва удержался от смеха, потому что вместо того, чтобы просто кивнуть головой, как было принято у нас, в Шотландии, он согнул спину, как форель, которая хочет нырнуть, шаркнул ногой и пресмешно прижал руку к сердцу. Моя мать с недоумением смотрела на него: она думала, что он смеется над ней; но кузина Эди сейчас же ответила ему тем же, точно это была какая-нибудь игра: она присела так низко, что я подумал: «Она уже теперь не может встать и прямо сядет на пол, посредине кухни». Но ничуть не бывало: она поднялась так легко, как пух, и затем мы все подвинули к столу стулья и принялись за булки с молоком и похлебку.
Надо было только дивиться тому, как этот человек умел обращаться с женщинами. Если бы мы, т. е. я и Джим Хорскрофт вели себя так, как он, то это имело бы такой вид, что мы дурачимся, и молодые девушки смеялись бы над нами; но у него это как будто бы гармонировало с выражением лица и манерой говорить, так что, наконец, мы к этому привыкли; потому что когда он обращался к моей матери или к кузине Эди — а он охотно говорил с ними, — то всегда с поклоном и со взглядом, выражавшим, что они едва ли удостоят выслушать то, что он хочет сказать, а когда они отвечали ему, то его лицо принимало такое выражение, как будто бы всякое их слово было сокровищем, которое нужно беречь и всегда хранить в своей памяти. И, несмотря на все это, даже и тогда, когда он унижал себя перед женщинами, в его взгляде всегда просвечивала какая-то гордость, как будто бы он хотел выразить, что это только с ними он обращается так мягко, и что при случае он может быть суровым. Что касается моей матери, то она удивительно смягчилась в своем обращении с ним и рассказала ему решительно все о своем дяде, который был доктором в Карлейле и самым видным лицом из родственников с ее стороны. Она рассказала ему также и о смерти моего брата Роба. Я никогда не слыхал, чтобы она говорила об этом с кем-нибудь прежде, и мне показалось, что у него были слезы на глазах, — у него, который видел, как умерли от голода три тысячи человек! Что касается Эди, то она говорила мало, но только время от времени поглядывала на нашего гостя, и раз или два он очень пристально посмотрел на нее. Когда он после завтрака ушел в свою комнату, то отец вынул из кармана восемь золотых монет и положил их на стол.