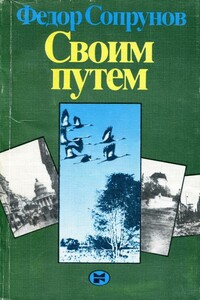Девушка и скрипка. Жизнь на расстроенных струнах | страница 80
Полиция хотела огласки, но меня эта идея повергала в ужас. Публичность казалась мне акулой, описывающей вокруг меня круги и жаждущей крови. Будут раны, будет боль. Я не могла на это пойти. Нет, никакой публичности. И снова Энди и Тони (тот молодой полицейский, который встретил нас в самый первый день) проявили понимание. Они сказали, что справятся без моего участия и что я, если хочу, могу сохранить свою личность в тайне. Самой скрипки Страдивари будет вполне достаточно. А мое имя упоминаться не будет. Они сделали сообщение для прессы: что за скрипка, сколько стоит, где была украдена, когда и во сколько. Но мы не учли одного. В 1696 году Страдивари сделал всего две скрипки. Так что журналистам не составило труда за несколько часов провести небольшое расследование, раскопать мое старое интервью и выяснить, что именно я — та самая прославленная дурочка. Они связались с полицией и сообщили, что будут раскручивать эту историю, и неважно, согласны мы или нет. Мы согласились. Выхода все равно не было.
Я раньше никогда не сталкивалась с такой журналистикой. Меня взрастили на диете из вегетарианских интервью о вундеркиндах-протеже, о концертах, о записях. А теперь до меня добрались репортеры другой породы: дикие, стремительные, готовые в битве за выживание обглодать происшествие до костей. Возможно, мне следовало отдать им себя на растерзание, попытаться направить сюжет в нужное русло и с их помощью обратиться непосредственно к похитителям. Тогда бы они, может быть, не написали, что той холодной ноябрьской ночью, примерно в половине девятого, я бросила свою скрипку на станции Юстон без присмотра на целых полчаса, чтобы купить сэндвич, и что в итоге этот сэндвич оказался самым дорогим в мире. Для них это была шутка, но они выставили меня идиоткой. Так и вижу, как жители пригородов читают газеты с этой новостью в поездах, пока мимо пролетают станции, и пересказывают ее друг другу: слыхал, слыхал? По отношению ко мне, которая не могла даже ответить, это было просто жестоко, низко и бессмысленно. Когда человек и так повержен, его не добивают ногами, причиняя новую боль и нанося новые раны. Что я им сделала? Наверное, самое страшное, что мог подумать обо мне сочувствующий читатель, это что я просто нелепый и безответственный человек. Но сама я казалась себе матерью-кукушкой, виноватой в том, что случилось с моей скрипкой. Конечно, в этом и была вся проблема. Во мне.
Но пресса была не единственным источником неприятностей. Со всех сторон раздавались возмущенные голоса тех, кто никак не мог понять, почему со мной не было охранника. Разве можно ездить в общественном транспорте со скрипкой, которая стоит целый миллион фунтов! Они не понимали, как музыканты вообще путешествуют со своими инструментами. У нас нет охранников, шоферов, машин с пуленепробиваемыми стеклами. Мы покупаем обычные места в самолетах, на кораблях и поездах. Я не отвечала на эти выпады. Но опять-таки: а вдруг стоило? Может, надо было броситься в бой, попытаться изложить свою точку зрения? Трудно сказать, но, судя по опыту, на такие ристалища выходить бесполезно. Эту пьесу писали не для тебя. Сражаясь, ты участвуешь в битве, в которой тебе никогда не победить, потому что сюжет этого не предполагает. Здесь свои правила, свои цели. Это как с разгромными рецензиями. На них нельзя отвечать. Сам факт того, что ты ответил, выставит тебя в еще худшем свете. Мэтт тоже нервничал, боялся, что его обвинят напрямую и что всплывет все, что произошло в том кафе.