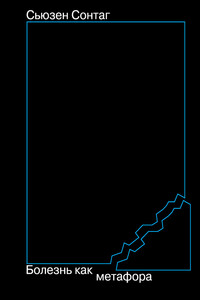Образцы безоглядной воли | страница 60
Может быть, от привязанности к любому, даже секуляризованному, подобию католической теологии социального порядка Чорана удерживает то, что он слишком хорошо понимает и слишком глубоко усвоил духовные предпосылки романтизма. Несмотря на всю критику революционного левачества, несмотря на брошенные, чуть свысока, слова о «незаслуженных привилегиях, которыми пользуется у нас всяческий бунт», он не может сбросить со счетов тот факт, что «практически любым открытием человек обязан собственному неистовству, разрушению своего душевного равновесия». Предлагаю сопоставить консервативную подоплеку некоторых эссе Чорана, его презрительную трактовку феномена беспочвенности с положительным, при всей иронии, отношением к мятежу в эссе «Думать наперекор себе», которое заканчивается следующей репликой: «С тех пор, как абсолют соотносится со смыслом, пестовать который мы не в силах, нам остается отдаться на волю бунта — в надежде, что рано или поздно он обратится против себя самого и против нас»…
Чоран явно не может сдержать восхищения перед всем необычным, своенравным, доходящим до края. Один из примеров здесь — необычный, своенравный аскетизм великих западных мистиков. Другой пример — крайности из обихода выдающихся безумцев. «Мы черпаем жизненные силы из кладовых сумасшествия», — пишет он в «Соблазне существования». В эссе о мистиках он говорит о «способности человека броситься в водоворот ничем не освященного безумия. Необязательно пользоваться их средствами: достаточно просто принудить разум как можно дольше молчать».
От консерваторов в современном смысле слова чорановскую позицию отличает в первую голову аристократизм. Ограничусь единственной иллюстрацией его запасов — эссе «По ту сторону романа», где роман подвергнут красноречивому и убедительному суду за духовную вульгарность, за преданность тому, что Чоран называет «низким предназначением».
Через все написанное Чораном проходит проблема безупречного духовного вкуса. Уход от всего вульгарного, от всякого разжижения собственного «я» — предпосылка, без которой невозможен тяжелейший двойной труд самосохранения личности, которую необходимо и во всей полноте утвердить, и вместе с тем преодолеть. Чоран берет под защиту даже такое чувство, как жалость к себе: тот, кто не признается в своих печалях, отсекая их от своего существа и лишая голоса, кто отказывает себе в праве жаловаться и стенать, тот «разрывает связь с общественной жизнью, превращая ее в посторонний предмет». Нередкая у Чорана самозащита от вульгарных соблазнов радоваться жизни, от «тупиков счастья» может показаться жестокой. Но здесь нет ни бесчувственности, ни притворства, стоит лишь вспомнить неимоверный чорановский замысел: «Не быть нигде, чтобы ничто внешнее не могло заставить тебя поступать так-то и так-то… устраниться из мира — скольких сил требует самоуничтожение!»