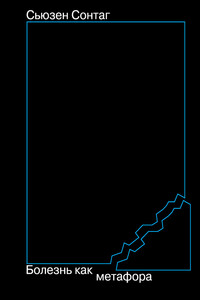Образцы безоглядной воли | страница 59
При всей ироничности приведенных строк, зависть Чорана к мистикам, чье занятие так напоминает его собственное — поиск того, что выше и долговечней разрозненных человеческих предприятий, вневременного остатка после всех переливов нашего «я», — явна и непритворна. Как и его наставник Ницше, Чоран пригвожден к кресту неверующего духа. Может быть, его эссе — лучший путеводитель по лабиринтам подобного сознания. «Перестав связывать свою внутреннюю жизнь с Богом, мы сумеем достичь такого же экстаза, как мистики, и подчиним себе земной мир, не прибегая к потустороннему», — начинается последний параграф чорановского эссе «В разговорах с мистиками».
В политическом плане Чорана приходится причислить к консерваторам. Либеральный гуманизм для него — предмет, попросту не заслуживающий ни времени, ни интереса, а надежды на радикальную революцию — что-то вроде недуга, от которого ум излечивается годами. («Желание спасти мир — возрастная болезнь молодых наций», — замечает Чоран в «Краткой теории рока», говоря о России.)
Может быть, пора напомнить, что Чоран родился (в 1911 году) в Румынии — а едва ли не все интеллектуалы, эмигрировавшие из тех краев, были до сих пор либо вне политики, либо на стороне открытой реакции — и что единственная, кроме пяти перечисленных сборников, выпущенная Чораном книга — это вышедшее в 1957 году издание трудов Жозефа де Местра, для которого он написал вступительную статью и отобрал тексты[11]. И хотя он в явной форме никогда не развивал теологию контрреволюции на манер де Местра, доводы последнего, кажется, близки к позиции, молчаливо разделяемой Чораном. Вместе с де Местром, Доносо Кортесом или более близким по времени Эриком Фёгелином Чоран придерживается того, что — с одной, вполне определенной точки зрения — можно назвать католическим образом чувств правого толка. В новейшей привычке подстрекать к революциям против установленного социального порядка во имя справедливости и равенства он видит своего рода детскую одержимость, — так старый кардинал мог бы покоситься на дикость какой-нибудь милленаристской секты. Отсюда же и склонность Чорана трактовать марксизм как «грех оптимизма» и его противостояние просвещенческим идеалам «терпимости» и свободомыслия. (Может быть, стоит добавить, что отец Чорана был православным священником.)
Но хотя Чоран вынашивает проект безошибочно узнаваемого, пусть даже не описанного впрямую, политического строя, в основе его подхода в конечном счете вовсе не религиозное чувство. Как ни близки его политические и моральные симпатии к образу чувств правых католиков, единственное, чему привержен Чоран — это, как я уже говорила, парадоксы атеистической теологии. Вера, на его взгляд, сама по себе ничего не решает.