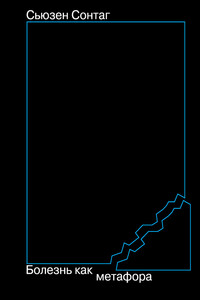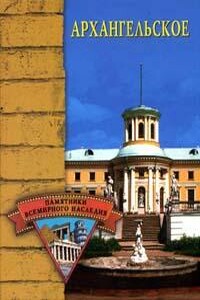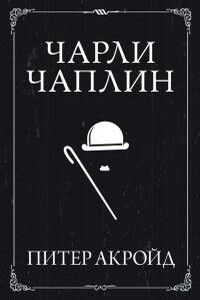Образцы безоглядной воли | страница 53
Чорановский метод отрывочной аргументации мало похож на объективистскую афористику Ларошфуко или Грасиана, где задержки и броски мысли отражают расколотую картину «мира». Скорее, он свидетельствует о тупике спекулятивного разума, который, кажется, только затем и выходит за свои пределы, чтобы оцепенеть и сдаться перед сложностью собственных посылок. Афористический стиль для Чорана — принцип не столько реальности, сколько познания: любая хоть чего-нибудь стоящая мысль обречена тут же потерпеть поражение от другой, которую сама втайне породила.
Не теряя надежды вернуть себе хотя бы толику былого уважения, философия вынуждена теперь беспрерывно доказывать чистоту своих помыслов. К наличному реквизиту ее понятий уже никто не относится так, будто он сам по себе — носитель гарантированного смысла. Однако есть сила, способная удостоверить этот смысл наново: страсть мыслителя.
Философия отныне — личное дело философа. Мысль ограничивается «мышлением», а то, в свою очередь, лишается всякого смысла, если не впадает в крайности и ничем не рискует. Мышление превращается в исповедь, в изгнание бесов, в набор абсолютно личных пароксизмов мысли.
Началом всего, заметьте, по-прежнему остается картезианский скачок. Существование приравнено к мышлению. Разница в одном: за точку отсчета берется не мышление как таковое, а только определенный разряд трудных мыслей. Мышление и существование — не сырые факты и не логические данности, а парадоксальные, непредсказуемые ситуации. Именно в этом смысл эссе, давшего титул одной из чорановских книг и первому сборнику его переводов на английский, — «Соблазн существования». «Существование, — пишет Чоран, — это навык, который я не теряю надежду приобрести».
Тема Чорана — сознание, ставшее разумным и поднявшееся тем самым на высшую ступень изощренности. Для него окончательное оправдание написанного — если на этот счет вообще можно строить догадки, — скорее всего, близко к тезису, который когда-то классически сформулировал Клейст в эссе «О театре марионеток». Сколько бы разлада, утверждает Клейст, ни внесло сознание в природное изящество человека, простой капитуляцией сознания это изящество не вернуть. Пути назад, возврата к прежней невинности нет. Нам остается одно: довести мысль до конца и так, в полном самосознании, может быть, снова обрести гармонию и невинность.
Разум у Чорана — соглядатай.
Только подсматривает он не за «миром», а за собой. Чоран — не меньше, чем, скажем, Беккет, — хочет добиться абсолютной цельности мысли. Иначе говоря, ограничить ее рамками или пределами мышления о мышлении и только. «По-настоящему свободный ум, — роняет Чоран, — недоступен для любых интимностей с бытием, с объектом и поглощен одним: собственной бездной».