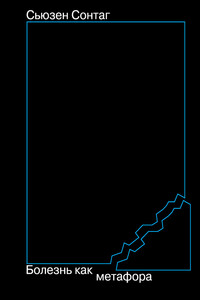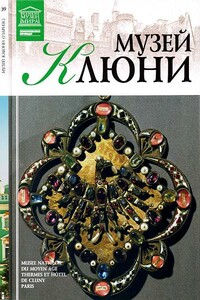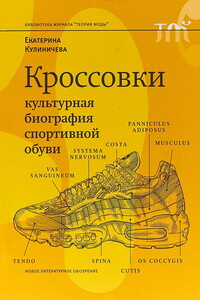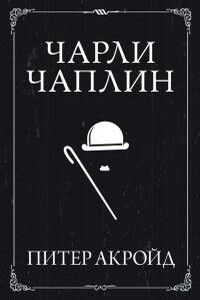Образцы безоглядной воли | страница 52
Истрепавшись в ходе этих небывалых по масштабу перемен, традиционные для философии и досужие в своей «абстрактности» фигуры мысли теперь, казалось, не соответствовали ничему: они уже не наполнялись смыслом, который извлекал прежде из их употребления любой думающий человек. Описывая ли бытие (действительность, мир, вселенную) или — по другой версии, составившей одну из первых и мощнейших оборонительных линий философского предприятия (бытие, действительность, мир, вселенная объявлялись тут лежащими «вне пределов» разума), — описывая только разум, философия больше не внушала доверия к своим способностям достичь обещанной цели: дать людям доступные формализации модели какого бы то ни было понимания. В конце концов языковому обиходу философии потребовались иные тактики обороны, перегруппировка сил.
Одним из ответов на провал философского «системосозидания» в XIX веке стал подъем идеологий — открыто и агрессивно антифилософских систем мысли, принявших форму тех или иных «положительных» либо описательных наук о человеке. Можно вспомнить Конта, Маркса, Фрейда, первопроходцев антропологии, социологии, лингвистики.
Другим откликом на крах устоявшихся доктрин стал новый тип философствования — личный по тону (а то и прямо автобиографический), афористичный, лирический, антисистемный. Лучшие образцы здесь — Кьеркегор, Ницше, Витгенштейн. Чоран — крупнейший представитель подобной школы письма на нынешний день.
Отправная точка этой современной постфилософской школы философствования — в осознании развала всех традиционных форм философского языка. Те немногочисленные возможности, которые уцелели, исковерканы: это речь либо в форме обрывков (афоризм, заметка, дневниковая запись), либо на грани перехода в другие формы (притча, стихотворение, философская сказка, литературно-критический обзор).
Чоран явно предпочел форму эссе. За пятнадцать лет вышли пять сборников его эссеистики: «Уроки распада» (1949), «Умозаключения горечи» (1952), «Соблазн существования» (1956), «История и утопия» (1960) и «Падение во время» (1964). По обыкновенным меркам эти эссе выглядят странно: отвлеченные, категоричные по аргументам, афористичные по стилю. Кто-то узнает в этом выходце из Румынии, изучавшем философию в бухарестском университете, с 1937 года обосновавшемся в Париже и пишущем по-французски, судорожную манеру новой немецкой философии, взявшей девизом: «Афоризм или вечность». (Примеры — философские афоризмы Лихтенберга и Новалиса, конечно же Ницше, пассажи «Дуинских элегий» Рильке и кафкианские «Размышления о любви, грехе, надежде, смерти и пути».)