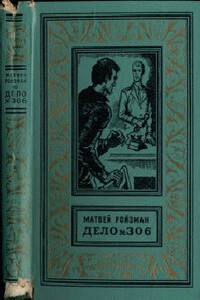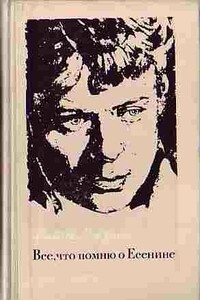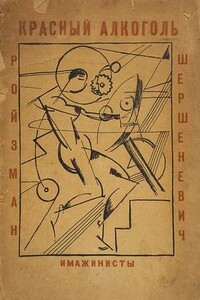Эти господа | страница 60
— Без чего, без чего, — произнес Мирон Миронович, — а без воды никак нельзя!
— За водой ехали два километра! — пояснил Перлин. — Пока волы проходили километры, пропадала работа в поле! Пока проходила работа, так волы пропадали в поле!
— Нос вытащишь, хвост завязнет, хвост вытащишь, нос завязнет! — весело проговорил Мирон Миронович. — Как же вы жили?
— Евреи всегда живут как же! — ответил Перлин, вешая на место полотенце, и обратился к Канфелю: — Что стоите, еврей? Садитесь!
— Я смотрю и удивляюсь, — сказал Канфель, опускаясь на стул. — Вы жнете, доите коров, говорите о хозяйстве, как настоящие крестьяне. Откуда это?
— Голод хороший учитель! — ответил Перлин, помогая тете Риве резать каравай хлеба. — А бедные евреи тоже имеют желудок!
— Это не так! — возразил Канфель, заерзав на стуле. — Вы забываете, что в древности мы пасли стада, мы сажали виноградники, мы пахали бесплодную землю…
— Мы ходили сорок лет по пустыне, мы вели разговорчики с господином богом! — воскликнула Рахиль, выходя из своей клетушки. — В хейдере рэбе так же разговаривает!
Рахиль — в коричневом, шерстяном платье, черных чулках и высоких желтых башмаках села напротив зажженной лампы. Лицо ее приняло цвет шоколада, кудряшки, старательно приглаженные щеткой, лежали барашковой шапкой, в ушах поблескивали золотые серьги-кольца. (Эти милые сердцу кольца, любимые серьги цыганки Стеши, молнией вспыхнули в памяти Канфеля.) Ему опять нравился задор Рахили, едва не переходящий в резкость, нравились ее угловатые движения, жестикуляция, которой она подгоняла свои мысли.
— Почему такая насмешка? — сказал Канфель, и в голосе его вздрогнула обида. — Я люблю мой народ!
— А кто ваш народ? — спросила Рахиль, тряхнула головой, и серьги ее взметнулись. — Авраам, Исаак, Иаков? Ротшильд, Бродский, Писманник?
— Самуил! — обратилась тетя Рива к Перлину, накрывая скатертью стол. — Еврейские барышни ведут себя так? — и, видя, что Перлин ухмыляется в бороду, добавила: — Отец не лучше дочери!
Левка вернулся домой, собирался шмыгнуть в комнаты, но тетя Рива поймала его за руку, заставила умыться и причесала ему волосы. Перлин подошел к столу, оглядел тарелки, ложки, ножи, принес скамейку и поставил ее перед столом.
— Ну, Рива, — спросил он, — можно уже садиться?
На первое тетя Рива подала лапшу, вся семья черпала ее деревянными ложками из миски. Перлин загребал глубоко, подставляя левую руку под ложку и, не расплескав ни капли, опрокидывал лапшу в рот; тетя Рива набирала в ложку лапши меньше, очищала внешнюю сторону ложки о край чугуна и, держа под ложкой кусок хлеба, осторожно несла ее к себе; Рахиль терпеливо вылавливала гущу, отжимала ее о внутреннюю сторону чугуна, подносила к себе, не капая, и ловко вбирала лапшу губами; Левка окунал ложку до середины руки, загребал ложку лапши с верхом и, теряя лапшу по пути, тянулся к ложке ртом. Когда тетя Рива подвинула ему миску с остатками, он встал на стуле на колени, помогая себе обеими руками и облепляя лапшинками лицо и грудь. После лапши тетя Рива поставила перед Перлиным миску с вареным мясом, Перлин нарезал мясо на куски, густо посолил и, подняв миску, опустил ее посередине стола. Мясо ели, не спеша, каждый словно про себя считал куски, не желая с’есть больше, чем другой, и, поняв это, Канфель переглянулся с Мироном Мироновичем.