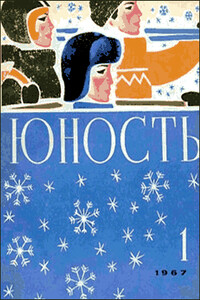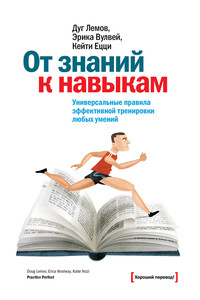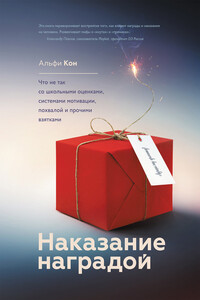Максимальный репост. Как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям | страница 39
Значит ли это, что у нас есть специальный ген либерализма и ген консерватизма? Вряд ли.
Год назад ясность решил внести Джеймс Фаулер, классик новой социологии (его научно-популярная книга «Связанные одной сетью»{47}, написанная в соавторстве с Николасом Кристакисом, переведена на 19 языков, включая хорватский и тайский). Команда Фаулера собрала в Швеции 1000 пар близнецов-мужчин в возрасте от 52 до 67 лет и расспросила их про экономическую политику. А еще добыла из армейских архивов результаты IQ-тестов, которые те проходили несколько десятилетий назад во время срочной службы (Швеция отказалась от призыва только недавно, в 2009-м).
IQ, как аккуратно выражаются генетики, имеет сильную наследственную компоненту. Политические пристрастия – тоже. Фаулер с коллегами предположили, что одно – просто следствие другого. Те, чей IQ выше, выступали против высоких налогов и перераспределения богатства. Соответственно, высказывались как типичные американские правые. То есть вроде бы консерваторы. Это было довольно неожиданно.
Фаулер уточняет: Швеция – не Америка, а государство с гипертрофированной социальной политикой. Высокие налоги, субсидии бедным и прочие ценности левых – это текущее положение вещей. Поэтому «отнимать и делить как раньше» – самый что ни на есть консервативный лозунг. А правые в этом контексте – либералы, партия перемен. Чем выше IQ, тем сильнее и желание что-то менять.
Можно пойти другим путем и искать различия напрямую, на уровне структуры мозга. В 2011-м выяснилось: у молодых консерваторов больше серого вещества в амигдале, центре эмоций, у молодых либералов – в передней поясной коре. У этой зоны сложная миссия: когда мы учимся, наши успехи поощряет дофаминовая «система наград». Но сама оценивать наши успехи она не умеет, а передняя поясная кора ей помогает.
Гипотезу подтверждает и сам эксперимент с отталкивающими фотографиями и томографом, описанный в Current Biology. Кора обучается, подкорка не очень, поэтому разницу в подкорковой активности трудно списать на жизненный опыт. Если профессиональный военный улыбается, стоя у стены в ожидании расстрела, или профессиональный канатоходец гуляет по тросу между небоскребами – это не значит, что они отучили свою подкорку генерировать страх. Наоборот, спокойствие обеспечивают одновременно две зоны мозга: одна, подкорковая, шлет сигнал тревоги, другая, в коре, обучена подавлять реакцию на этот сигнал. Психопат, у которого амигдала не работает с младенчества, может вести себя так же бесстрашно, однако на его томограмме обе зоны, в коре и в подкорке, просто спят.