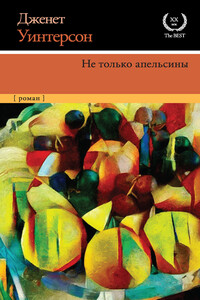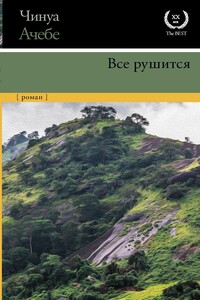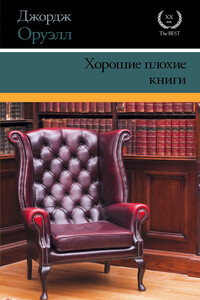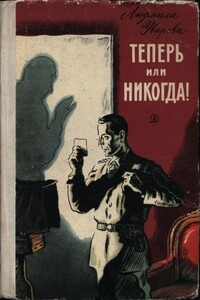Комната Джованни. Если Бийл-стрит могла бы заговорить | страница 103
– Я рада. Я рада. Ты не думай. Я рада.
Но сейчас он был наедине с собой, далеко от меня. Я ждала, когда он вернется. Я видела, как по лицу у него пронеслось: мой ребенок? Я знала, что Фонни так подумает. Он не во мне сомневался, нет! Но у мужчин всегда такая мысль. И на эти несколько секунд, когда он оставался совсем один, далеко-далеко от меня, не тюрьма, даже не я сама, а ребенок был единственным, что оставалось в мире настоящего.
Мне бы сразу надо сказать: мы не женаты. Он относится к женитьбе серьезнее меня, хотя я его понимаю. Мы собирались пожениться, но тут он как раз попал в тюрьму.
Фонни двадцать два года. Мне девятнадцать.
Он задал мне обычный нелепый вопрос:
– Ты не ошиблась?
– Может, и ошиблась. Просто хочу сбить тебя с толку.
И тут он улыбнулся. Он улыбнулся потому, что сразу поверил мне.
– Как же нам быть? – спросил он совсем как маленький мальчишка.
– Ну что тебе сказать? Топить его мы не станем. Придется, наверно, растить.
Фонни откинул голову назад и рассмеялся, он смеялся до тех пор, пока у него слезы не потекли. И тогда я поняла, что первые минуты – то, чего я так боялась, – сошли благополучно.
– Ты сказала Фрэнку? – спросил он меня.
Фрэнк – это его отец.
Я ответила:
– Нет еще.
– А своим сказала?
– Тоже нет. Но ты о них не думай. Я хотела тебе первому.
– Ну что ж, – сказал он. – Это, наверно, правильно. Ребенок…
Он посмотрел на меня, потом опустил глаза.
– Нет, правда, как же ты дальше будешь?
– Как была, так и буду. Работать хочу почти до самого последнего месяца. А потом, ты не думай, обо мне позаботятся мама и сестра. И вообще до той поры мы тебя отсюда вытащим.
– Ты в это веришь? – со своей легкой улыбочкой.
– Еще бы не верить. Я, не переставая, в это верю.
Я знала, что́ у Фонни в мыслях, но я не позволяю себе думать об этом – во всяком случае не сейчас, когда смотрю на него. Мне надо верить.
Позади Фонни показался конвоир: пора было уходить. Фонни улыбнулся и, как всегда, поднял кулак, я тоже подняла, и он встал. Меня каждый раз удивляет, когда я вижу его здесь, какой он высокий. Правда, он похудел и, может, от этого кажется еще более долговязым.
Он повернулся и вышел в дверь, дверь за ним захлопнулась.
У меня закружилась голова. Я весь день почти ничего не ела, а сейчас время было уже позднее.
Я вышла из помещения в эти длинные, широкие, ненавистные мне коридоры, которые больше пустыни Сахары. Сахара никогда не пустует; эти коридоры никогда не пустуют. Если идешь по Сахаре и вдруг обессиленная падаешь, то вскоре над тобой начинают кружить стервятники, чуют твою смерть, вдыхают ее запах. Они кружат все ниже и ниже – они ждут. Они все знают. Знают точно, когда плоть твоя изнемогла, когда дух твой уже не в силах обороняться. Бедный люд всю жизнь бредет по Сахаре. Адвокаты же, поручители и вся эта кодла кружат над бедняками, точь-в-точь как стервятники. Правда, они сами нисколько не богаче бедняков, поэтому и получаются из них стервятники, потребители отбросов, те гады, что обшаривают мусорные ящики, и, конечно же, в их числе и наша черная шпана, которая кое в чем еще и того хуже. Мне на их месте было бы стыдно. Но теперь, когда о многом пришлось подумать, пожалуй, и не было бы. Не знаю, чего бы я не сделала, чтобы вытащить Фонни из тюрьмы. У нас люди ничего такого не стыдятся. Стыдятся только те работящие черные женщины, которые из жалости называют меня дочкой, да горделивые пуэрториканки, так как некому им объяснить, почему их возлюбленные попали в тюрьму: ведь по-испански здесь никто не говорит. Но им-то стыдиться нечего. Пусть стыдятся те, кто все эти тюрьмы придумал.