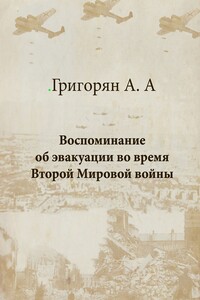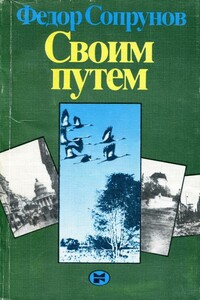Два детства | страница 42
Замолчал дед Василий, над нами сгустился и обвис сумрак, за окном лучилась низкая яркая звезда.
— Время уж не рано: от западенки понесло. Ложитесь, я посижу до света. Спите, не бойтесь, я вас никому не отдам.
Печальную весть, что бабушка покинула нашу избу, мать с отцом встретили молча. Мать смотрела на отца, а он — в угол.
— Что теперь про нас с тобой судачить станут? — сказала мать. Отец продолжал молчать, а потом стукнул ладонью по столу, прошел по избе, сел и опять встал.
— Молва пойдет, от нее не убережешься. Она, как волна, несет добро и мусор. Анна, а если все, чего боимся — через колено, на половинки да на сторону! Не испугаешься, Анна?
Он отодвинул стол, стал перед божницей с опущенными руками, потом выбросил их к потолку, резким движением сгрудил в кучу три иконы, понес их к печке. Мать остановила отца перед шестком.
— Павел, может, на пятры[35] вынести? Не было бы худо…
— Худо? А когда нам было с ними хорошо? Мы родились под ними, при них нам в церкви имена дали — Павел, Анна, — своих детей с этими же свидетелями в купель макали… а не приметили они нас! Изладили себе пужало! Ребятишек букой пугаем, а сами себя — богом. Счастье привалит — бог помог, беда нагрянет — бог наказал. До каких пор просить: «Подай, господи»? Что ему нравится — не знаешь, как угодить — не догадаешься. Когда дойдет до него наша молитва? А может, мы неладно молимся? Как узнать? Во все дела вмешивается, верховодит, доступа к нему ни с какой стороны нет.
— Свыклись с иконами. С пустым углом страшно будет.
— Сами люди придумали этот страх, опутали себя: головы не поднять, глаз не открыть. Вот и отхватывают нам головы, как в страду перепелкам серпом в полосе. Проживем, помрем, поставят нам на грудь размалеванную досочку как пропуск в рай. Явимся туда, а нам скажут: «Не сподобились, не домолились. Иди-ка ты, раб божий Павел, со своей Анной, покипи в смоле». Бог — это хитрая штука, и придумал его ловкий человек! На войне мы были слугами у царя. Догадался народ прибрать к месту этого хозяина. Не хочу в рабах ходить!
— А то бы вынести, прибрать, может… Боязно, — упрашивала мать.
— Боишься кары божьей? Беру грех на себя! Если он есть на небе, — не стерпит, поразит огненной стрелой!
Отец отстранил мать, бросил иконы в печь. Они с треском запылали. Мать опустилась на лавку, закрыла глаза. Я ждал громовой стрелы, втянул голову в плечи, но ее не было.
— Анна, открой глаза!
Отец вызывает в коммуну
Не знаю, кто догадался дать коммуне поэтическое название «Майское утро»? Название это вмещало в себя новое и солнечное, как весенний побег на старых полях единоличной Журавлихи.