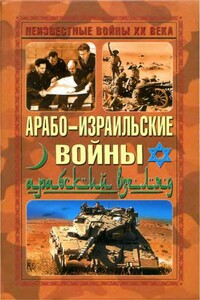Рождение бомбы | страница 79
Деятельность Симона и его оксфордского коллектива по разделению изотопов покоилась на довольно шаткой базе контракта с министерством авиационной промышленности на сумму 5000 фунтов стерлингов, выданного Оксфордскому университету летом. Работа, которую начал оксфордский коллектив, шла по двум направлениям. Во-первых, нужно было определить физические и химические свойства гексафторида урана — газа, который имел наилучшие перспективы для разделения изотопов методом газовой диффузии. О нем пока мало знали, но предполагали, что этот газ обладает многими отрицательными и трудноустранимыми свойствами. Во-вторых, требовалось определить точно, каким путем и при каких условиях можно отделить один изотоп от другого при прохождении сквозь мембраны. Одно время думали использовать центрифугу. Идея сводилась к тому, что мембраны следовало расположить по периферии центрифуги, которая работала бы при весьма низком давлении — около одной сотой атмосферы.
К началу зимы многие из этих теоретических барьеров и некоторые другие затруднения были преодолены. Успешные результаты оксфордского коллектива нашли свое отражение в многостраничном исчерпывающем докладе, составленном Симоном в середине 1940 г. В этом докладе говорилось не только о путях преодоления многих трудностей, но и о проекте завода, необходимого для выполнения работы. В докладе были подсчитаны потребности в электроэнергии, людском персонале и деньгах для постройки и эксплуатации завода. Несмотря на то что Симон имел дело с материалами редко до этого встречавшимися, и то лишь в лабораториях, все же он достаточно убедительно рассказал, как надлежало с ними работать в заводском масштабе.
Составление проекта завода для разделения редких изотопов урана было наиболее важным шагом, после чего вся проблема стала выглядеть значительно проще в техническом отношении, чем казалось раньше. Симон понимал, что это имело большое значение для колеблющихся, все еще считавших проект изготовления бомбы хотя и интересным, но довольно дорогим в условиях военного времени.
Теперь необходимо вернуться к Халбану и Коварскн, работавшим в Кавендишской лаборатории. Условия, в которых Халбан и его коллеги трудились, стараясь впервые в мире доказать возможность работы ядерного реактора, были тяжелыми. Подобно всем остальным группам в Британии, кембриджский коллектив располагал минимальным количеством оборудования и персонала, имел мало денег. В первые месяцы штат состоял из одного лаборанта. Даже получение новых алюминиевых канистр для тяжелой воды представляло такую же сложную проблему, как это было в свое время в Норвегии. В конце концов, на помощь снова пришла «фирма», состоявшая из одного человека, и крайне нужные канистры были изготовлены.