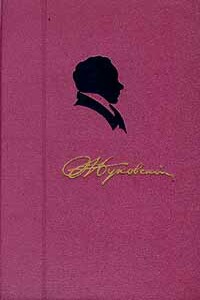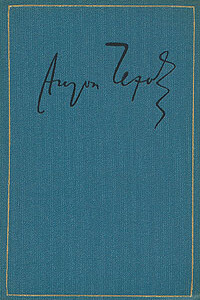«Всегда же со мною твой образ...» | страница 39
Да мне руку и еще раз — будь спокойна!
1938. (Без точной даты. — Т. К.)
Это вот мое, твое, наше время — оно требует только нивелировки личных, ставших лишними — лишних — свойств и нюансов существа, именуемого человек — и отдаленно его напоминающего, и еще широких больших обобщений, в которых опять тонет это беспомощное существо.
Поэтому бессмысленно кричать, просить, звать на помощь, рассказывать о своих ощущениях, о своих судорожных днях.
У меня разбита голова. Железом. И я улыбаюсь мысли о том, что, очевидно, это первый этап познания подлинной жизни.
Мельчаю. Я знаю, что мелка, но еще более явственно знаю, что, сделав тот единственный шаг, который определил и закрепил бы отход от мелочности, я пришла бы в тот тупик, где вместо, казалось бы, обретенной цельности я неизбежно становлюсь жалкой и, следовательно, вдвое мельче.
Тут можно говорить яснее, но требуется ли это?
Человек не только волк другому, но он и тигр себе, после того, как его отдали на растерзание собственным мыслям, инстинктам, тоске. Потому что беда тех, координирующих начал, которыми были бог, мораль, этика, культура, даже традиция бытовая, — их нет. Они сломаны, как клетки, в которых веками сидели звери, теперь вышедшие в толпу, на человека. А мы делаем вид, что счастливы, потому что жаловаться теперь некому, потому что ты именно тот кузнец, ковавший счастье и опаливший душу железом на пороге к нему.
Как же ходить по земле? С этим ли циничным скепсисом в ладони (?) на все позорящие тебя встречи и явления про запас. Для самоуспокоения. Или, отшвырнув его ногой, как засохший коровий помет, — взять курс на ту дорогу, где, оставаясь тигром себе, ты не будешь волком другому. И не только не будешь волком, а еще в меру той сокровенной сердцевины, которая от подлинного «homoni», что-нибудь предотвратишь гибельное, чем-то ускоришь рождение яркое.
Пойдем этой дорогой.
7.10.1938. Москва.
Садись, поговори со мной. Отдохни от своих мыслей. Цветут липы. Липень. Месяцу немного скучновато смотреть на землю, на эту простую зеленую скамью Гоголевского бульвара. Он стар и чрезмерно заражен скепсисом, гораздо больше, чем эти старые деревья и Гоголь, который для ребят, устраивающих веселые игры у подножия, не больше чем удобная игрушка.
Мне трудно говорить именно потому, что слова глохнут от страшной боли твоей, против которой, вернее, против ширины ее, нет как будто возражений, нет достаточно ярких и прямых опровержений возможности ее существования.