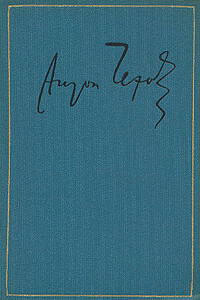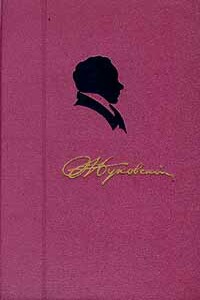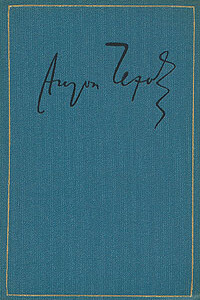«Всегда же со мною твой образ...» | страница 37
Как много дал хирургический нож.
Я обрываю эту мысль, Алесь, я не додумала еще ее. Если ты сумеешь правильно проследить эту нить — протяни ее мне. Да, сердце сейчас живет — оно залито кровью, но оно живое, мое, в него я вложу все мечты о подлинном настоящем кристалле.
Смешно?
Мне самой. Я ведь все равно собираюсь закрыть его наглухо.
Я пишу в темноте. Поэтому так стихийно выглядят строчки.
Приветствую.
Женя.
* 10.08.1938. Ленинград.
Как ты болишь мне, родной, непонятный человек! Писал тебе долго и много: не говорить не могу, а то, что хочу сказать, тебе не нужно. Но и врать перед страшной болью твоей не имею силы. Порез живой, он кровоточит, но ни излечить, ни срастить его мне невозможно.
И я живу. Будем жить. Садись возле меня. Среди других чужих я наиболее нетребовательный и сообразительный.
Под летним солнцем добыл силу. Как всегда готов отдать ее тебе. Помолчи. Спрячь в моих руках свои малые ладони. Пусть не болит голова, пусть успокоится тревожное, трепетное сердце.
Спи спокойно.
(Подпись)
29.09.1938.
Возвращался, и всплывшие мысли должны были составить письмо к тебе. Но в комнате оказалось неуютно, неприбрано, и я, по врожденной опрятности к слову, не могу сесть за бумагу в беспорядке, с грязными руками. И теперь после приборки думается бледно, очень умно, и становится скучно.
А слова твои лежат перед глазами, цветные, яркие, живые.
У тебя теперь совсем темно, и где-то внизу очень знакомый шорох — волна набегает на камни. Хотел написать — знакомый до боли, но поймал себя на том, что усиление нелепое, что бессмысленно делать жизнь болеутверждением и спорить таким образом с природой ее — радостью. Боль и смерть всегда к нашим услугам — только позови, жизнь дается однажды, и вернуть ее невозможно. И по этому поводу всплывают принц Датский и благородный идальго из Ламанчи. Рядком становятся полнокровный Кола Брюньон и веселый циник Рабле. Когда бакалавр пытался вылечить Дон Кихота от его одержимости, Антонио сказал: «Вы хотите лишить мир одного из самых прекрасных безумцев: философия этого прекрасного безумца — взгляд на жизнь как на представление: одни — короли, третьи — епископы, четвертые — рабы. Пьеса окончена, грим смыт, одежды сброшены, и остаются кости. Это представление в преломлении Санчо Панса выглядит так: шахматная доска, все фигуры имеют значение. Игра кончена, и они ложатся в ящик без рангов и порядка. Взгляд утомительно трезвый, но безошибочный. И это сильнейший довод в пользу жизни. Думаешь, парадоксально? Смотря глубоко — нет.Не буду утомлять тебя рассуждениями. Я могу насочинять чепухи, думать некогда, поглощаю огромное количество книг, философов, историков, думающих и умных людей. Какая-то труднообъяснимая жажда впитать как можно больше, чтобы через познание прийти к представлению. Когда я выяснил, что литература меня не трогает, то задумался: чего я хочу? Для чего учусь, читаю. Но так как научного мышления у меня нет, склонность обобщать и делать выводы отсутствует или во всяком случае развита низко, а вместо этого налицо остановка на острых углах и сбегах противоречий (результат — стихи), то я решил, что познание для меня средство к созданию образа, к более широкому и точному воспроизведению явления, характера, типа. И сейчас чтение надо бросить, пора посмотреть, что просочилось в сознание, что удержалось, что подлежит исключению. Я строю себя не в первый раз, но всегда из пепла. Печальный Феникс!