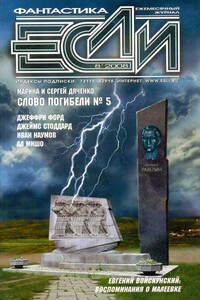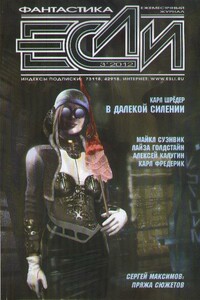Два фантастических парня из Нью-Йорка | страница 2
А тут – престижное издание тиражом в две сотни тысяч экземпляров! Донесшее до широкого читателя то, о чем тогда можно было прочитать разве что в самиздате... И хотя знакомство с другим значительным романом Бестера, «Тигр! Тигр!» после первого рискованного эксперимента (видимо, смелость его по достоинству оценили не только благодарные читатели, но и профессиональные блюстители нравов) отложилось на долгие два десятилетия, мы все-таки подсознательно – ждали. Перечитывая новые, приходившие к нам изредка и строго дозированно, переводы рассказов – таких же ярких. остроумных, стилистически совершенных, – ждали нового прорыва, понимая, что от кого-кого, но от автора «Человека Без Лица» вправе надеяться как раз на что-то из рук вон выходящее...[1]
Основательное знакомство с творчеством Альфреда Бестера состоялось лишь в начале девяностых годов. А познакомившись, – удивились: до чего же мало – по американским меркам – он успел написать. И сколь велико совершенное им в фантастике. Бестер остается бесспорным рекордсменом если не по интенсивности, так хоть по эффективности «стрельбы»: большинство из того, что он создал, ныне – бесспорная классика жанра.
И не было в этом жанре ни одного мало-мальски основательного потрясения основ, ни одного шумного движения – от «Новой Волны» до нынешних киберпанков, – не водрузившего бы на свои штандарты имя Альфреда Бестера.
Иная судьба сложилась на отечественном – фантастическом во всех смыслах – рынке у Роберта Шекли.
Его имя сегодня говорит российскому любителю фантастики, вероятно, больше, чем фэнам на родине писателя. Парадокс – не первый и не последний в жизни того, кто так их любит.
Судьба ему, можно сказать, улыбнулась дважды. Первый раз – в начале 1960-х годов, когда короткие остроумные новеллы Роберта Шекли превратились в поистине козырную карту для редакторов ведущих американских журналов научной фантастики «Гэлакси» и «Иф» (в них, кстати, нашел себя и второй наш герой – Альфред Бестер!), и молодой автор быстро выбился в первые ряды пишущих эту литературу в Америке. Спустя десятилетие эстафету подхватили редакторы и составители на другом конце земного шара: ни для кого не секрет, что в свое время имя писателя у нас звучало синонимом непереводимого русского слова «проходняк».
Скорее всего, сам Шекли оставался в полном неведении относительно своего второго взлета... Да и как было ему объяснить поделикатней, что причина трогательной и стойкой любви советских редакторов, в те годы бережно хранивших идеологическое целомудрие, заключена в одной, если задуматься, убийственной характеристике: «забавен и не очень опасен».