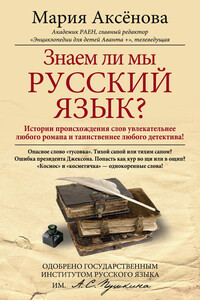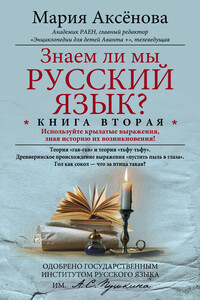Знаем ли мы все о классиках мировой литературы? | страница 95
Когда известный художник Билибин решил вернуться в СССР, Куприн воскликнул: «Боже, как я вам завидую!» Билибин взял на себя миссию переговорить с советским послом о возвращении и Куприна на родину. Вопрос был решён правительством положительно. И в 1937 году Куприн с супругой выехали из Парижа в Москву. Тайно, потому что эмиграцию, которую не очень волновало, как и на что существовал писатель в Париже, всколыхнул и расколол факт его «бегства».
Вся не растраченная за эти годы ненависть к оставленной России обрушилась на голову дочери Куприных, Ксении, вдовы популярного русского поэта и прозаика Саши Чёрного, тоже эмигранта, которая была успешной моделью и актрисой, по сути поставив крест на её карьере. В 1958 году Ксения Александровна вернулась в СССР, ей дали в Москве небольшую квартиру и зачислили в штат Театра имени Пушкина. Но ролей почти не было. И она стала замечательной переводчицей французских драматургов (пьесу «Мамуре», в которой блистала Гоголева, тоже она открыла нашему зрителю), приняла деятельное участие в создании музея отца на его родине – в селе Наровчат Пензенской области, снялась в нескольких документальных фильмах об отце, которого боготворила всю жизнь.
Впоследствии Куприн вспоминал: «Накануне отъезда я до такой степени был взволнован, что почти серьёзно заявил жене: «Если мы завтра не сядем в поезд – я пойду пешком!»
В СССР писателя встретили тепло, и официальная власть его обласкала, озаботилась его здоровьем и бытом, выделила дачу в его любимой Гатчине и пр. И что было для великого писателя главным – издали двухтомник лучших его произведений, стали печатать в журналах его рассказы, очерки и повести, опубликованные ранее за границей. А в начале 60-х годов произведения Куприна были включены в школьную программу.
К началу Первой мировой Николай Степанович Гумилёв (1886–1921) был уже известным поэтом, одним из ярких представителей русской поэзии Серебряного века, создателем течения акмеизм, основателем «Цеха поэтов», в который кроме него входили Анна Ахматова (его супруга, если кто не знал), Осип Мандельштам, Владимир Нарбут, Сергей Городецкий, Елизавета Кузьмина-Караваева (будущая мать Мария) и другие.
Николая Степановича признали негодным к службе из-за косоглазия и хромоты. Но он упорно раз за разом штурмовал медкомиссию. Выучился стрелять с левой руки, целясь здоровым глазом. За свои деньги прошёл курс верховой езды. В итоге он всё же оказался на фронте в качестве вольноопределяющегося – привилегированного солдата – в составе лейб-гвардии Уланского её величества полка. Участвовал в сражениях в Южной Польше, за личную храбрость в ночной разведке был награжден Георгиевским крестом IV степени, в январе 1915 года был произведён в унтер-офицеры. В феврале поэт сильно простудился, получил воспаление лёгких и месяц лечился в Петрограде, но по выздоровлении опять вернулся на фронт.